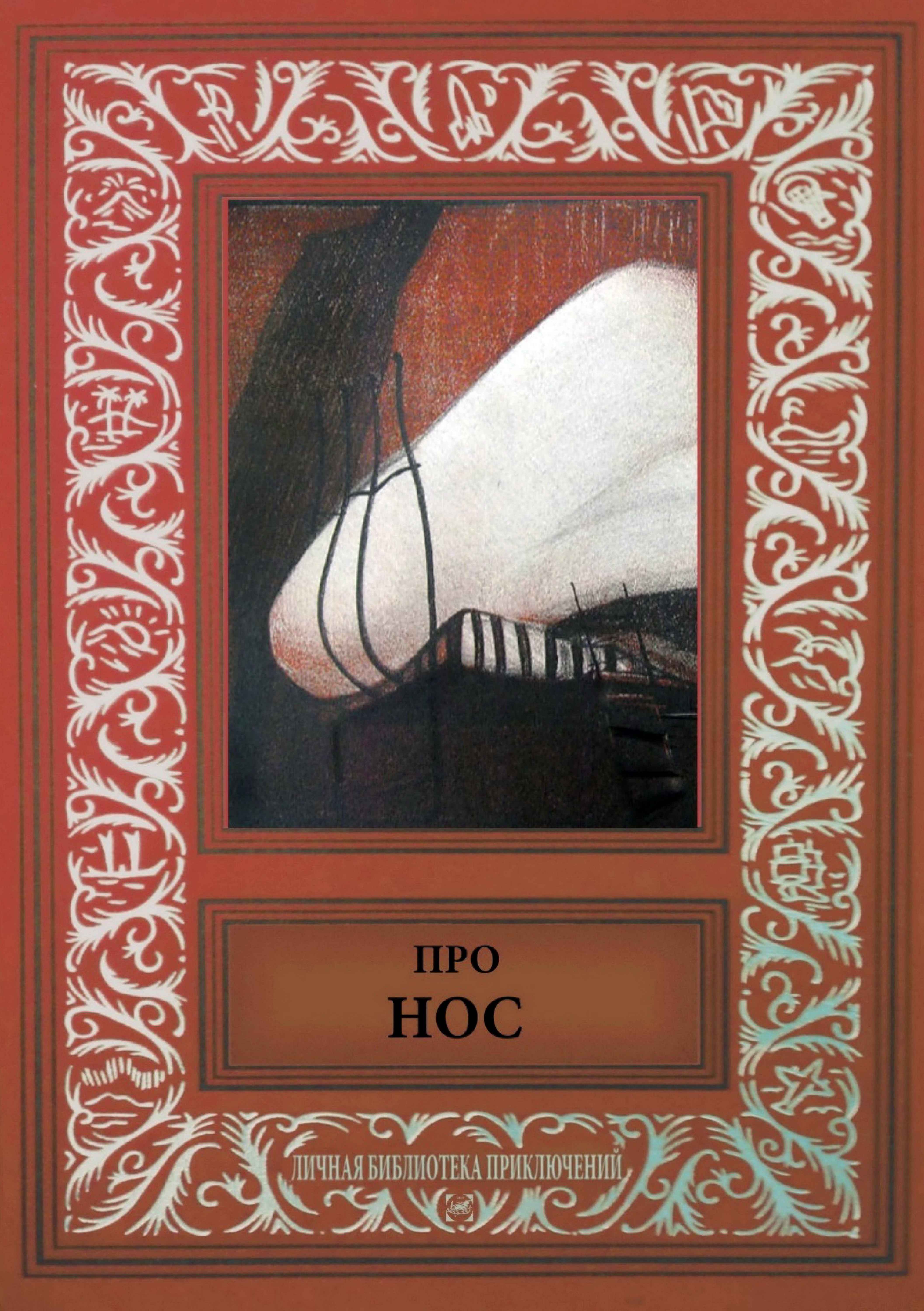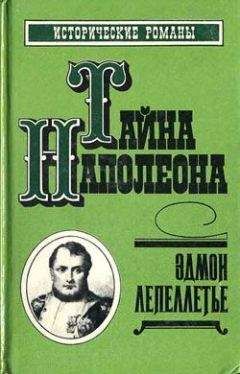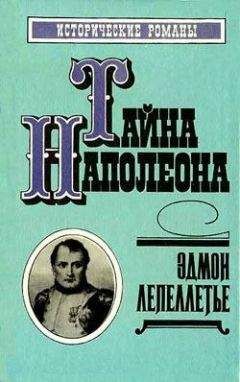цвет носа ему не понравился. Он был точно отморожен.
Он успокоился, подумал, что связка дров в камине возвратит ему естественный цвет; в самом деле тепло помогло и нос вскоре побелел. Но на следующее утро зуд возобновился, плева сильно надулась, и снова появился красный цвет с прибавкой фиолетового. Целую неделю он просидел дома перед камином, и роковой цвет исчез. Он вновь появился при первом же выезде, не взирая на мех тёмно-бурой лисицы.
Г. Л'Амбера объял страх; он поспешно послал за г. Бернье. Доктор прибежал, нашел легкое воспаление и прописал компрессы из ледяной воды. Нос освежился, но не выздоровел. Г. Бертье был изумлен таким упорством.
— Быть может, — сказал он, — Диффенбах в конце концов и прав. Он утверждает, будто кусок может омертветь вследствие обильного прилива крови и советует приставить пиявки. Испытаем!
Нотариус приставил пиявку к концу носа. Когда она, насосавшись крови, отпала, то была заменена другою и так далее, в течение двух дней и двух ночей. Опухоль и краснота на время исчезли; но улучшение длилось не долго. Надо было поискать другого средства. Г. Бернье потребовал сутки на размышление, и раздумывал сорок восемь часов.
Когда он вновь явился, то имел озабоченный и несколько робкий вид. Он сделал над собой усилие раньше, чем сообщил г. Л'Амберу следующее:
— Медицина не в силах объяснить всех естественных явлений, и я вам изложу теорию, не имеющую ни малейшего научного характера. Мои собратья, быть может, посмеялись бы надо мною, если-б я сказал им, что кусок, отделенный от человеческого тела может оставаться под влиянием своего прежнего владельца. Ведь ваша кровь, выбрасываемая вашим же сердцем, под действием вашего мозга приливает столь неудачно к вашему носу! А между тем я склонен к предположению, что этот болван Овернец не без влияния в этом случае.
Г. Л'Амбер громко вознегодовал.
— Подумать только, что этот подлый наемник, которому заплачено все сполна, может оказывать тайное влияние на нос члена судебного ведомства, да это наглость!
— Хуже, — отвечал доктор, — это нелепость. И все-таки я попрошу у вас позволения отыскать Романье. Мне необходимо его видеть сегодня же, хотя бы только ради того, чтоб убедиться в своей ошибке. Есть у вас его адрес?
— Избави Боже!
— Ну, так я пущусь на поиски. Потерпите, не выходите и пока не лечитесь.
Он проискал две недели. Полиция пришла к нему на помощь и проводила его еще три недели. Откопали с полдюжины Романье. Ловкий и опытный сыщик открыл всех Романье в Париже, кроме требуемого. Отыскали инвалида, продавца кроличьих шкурок, адвоката, вора, приказчика суровской лавки, жандарма и миллионера.
Г. Л'Амбер сгорал от нетерпения, сидя у камина, и созерцая свой багровый нос. Наконец отыскали квартиру водоноса, но он больше там не жил. Соседи показали, что он нажился, продал бочку и стал наслаждаться жизнью.
Г. Бернье бросился по кабакам и иным увеселительным местам, между тем как его пациент был погружен в меланхолию.
2-го февраля, в десять часов утра, красивый нотариус печально грел ноги и, скосив глаза, посматривал на цветущий пион посреди своего лица, как радостный шум пронесся по всему дому. Двери с треском отворялись, лакеи кричали от изумления, и появился доктор, таща за руку Романье.
То действительно был Романье, но как мало походил он на самого себя! Грязный, оскотинившийся, отвратительный, с потухшими глазами, со зловонным дыханием, с отрыжкой от вина и табаку, красный с головы до ног, как вареный омар: то был не человек, а воплощенная роза.
— Чудовище! — сказал ему г. Бернье, — ты должен умереть со стыда! Ты оскотел пуще всякого скота. У тебя еще человеческое лицо, но цвет кожи не человеческий. На что ты употребил то небольшое состояние, которое мы тебе составили? Ты опустился до самого низкого разгула, я отыскал тебя за парижскими укреплениями, ты как свинья валялся у порога самого грязного кабака.
Овернец поднял большие глаза на доктора, и сказал на своем приятном наречии, с приобретенной в предместьях интонацией:
— Ну, так что-ж.! Я гулял! С чего-ж. вы мне мелете вздор?
— Кто мелет вздор? Тебя упрекают за гадости, вот и все. Зачем ты пропил деньги вместо того, чтоб сберечь их?
— Он мне сказал, чтоб я повеселился.
— Дурак! — вскричал нотариус. — Разве я тебе советовал напиваться у застав водкой и синим вином?
— Всякий веселится, как может... Я был там с товарищами.
Доктор даже подпрыгнул от гнева.
— Хороши, нечего сказать, товарищи! Как! я сотворил врачебное чудо, которое меня прославило на весь Париж и рано или поздно откроет мне дверь в Академию, а ты с какими-то пьяницами портишь мое самое божественное творение! Если бы это касалось только тебя, то мы оставили бы тебя в покое. Это физическое и нравственное самоубийство, но будет ли больше или меньше одним овернцем, — для общества решительно все равно. Но дело касается человека светского и богатого, твоего благодетеля и моего пациента! Ты его обесславил, обезобразил, зарезал своим скверным поведением. Посмотри, в какое плачевное состояние ты привел его лицо!
Бедняк взглянул на подставленный им нос, и залился слезами.
— Ах, какое несчастье, г. Бернье; но свидетельствуюсь Богом, я не виноват. Нос сам собою попортился. Ей-Богу, я человек честный и божусь, что до него и не дотрагивался даже.
— Глупец! — сказал г. Л’Амбер, — ты никогда не поймешь... и притом, тебе и понимать-то не зачем. Теперь, скажи нам без уверток, намерен ли ты исправиться и отказаться от своей разгульной жизни, которая убивает меня рикошетом? Предупреждаю тебя, что у меня руки долгие, и что если ты будешь упорствовать, то я тебя засажу в крепкое местечко.
— В тюрьму?
— В тюрьму.
— В тюрьму с мошенниками? Простите, г. Л'Амбер! Это принесет бесчестье всей семье.
— Перестанешь ты пить, или нет?
— Ах, Господи! да на чтож я стану пить, когда у меня и су не осталось? Я все истратил, г. Л'Амбер. Я пропил