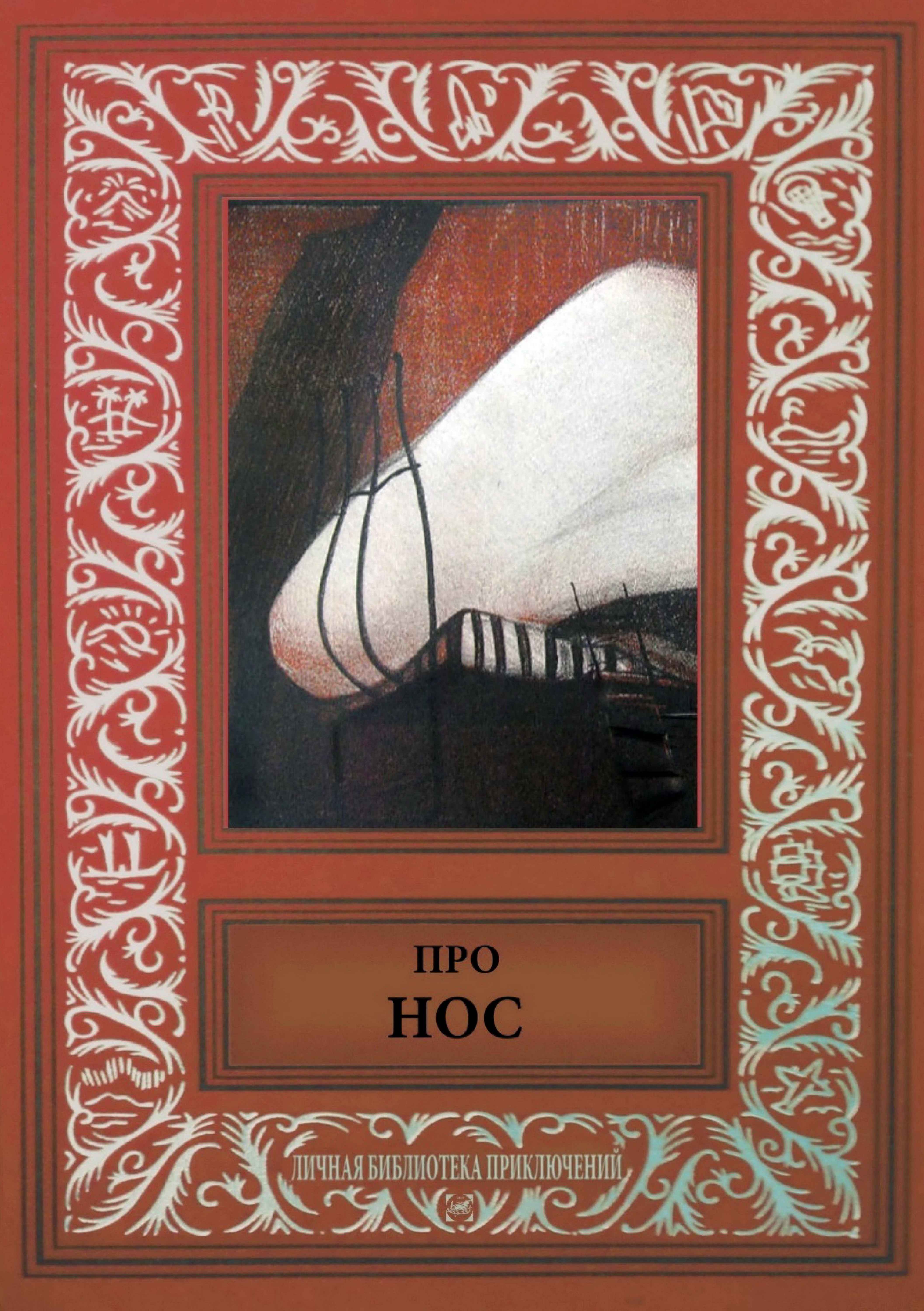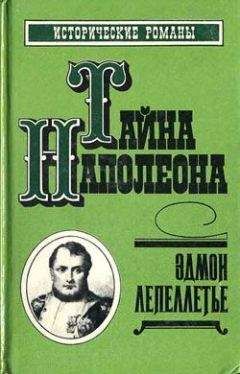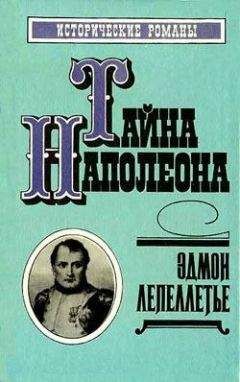две тысячи франков, я пропил бочку и все остальное, и никто на всем земном шаре мне не верит!
— Тем лучше, дурак! Отлично.
— Надо мне образумиться. Бедность подходит, г. ЛАмбер.
— Превосходно,
— Г. Л'Амбер!
— Что?
— Если-б вы были добры и купили мне бочку, чтоб я мог зарабатывать на хлеб, то, божусь вам, я-бы исправился.
— Рассказывай! Опять запьешь.
— Нет, г. Л'Амбер, честное мое слово.
— Обещанье пьяницы!
— Что-ж. вы хотите, чтоб я умер с голоду и от жажды? Сотенку франков, добрый г. Л'Амбер.
— Ни сантима! Тебя само Провидение довело до бедности, чтоб у меня лицо стало опять человеческое. Пей воду, ешь черствый хлеб, лишай себя необходимого, пожалуй, умри с голоду; только чрез это я опять понравлюсь и стану самим собою.
Романье опустил голову, и отвесив поклон вышел, волоча ноги.
* * *
Нотариус был рад, и доктор торжествовал.
— Я не стану хвалиться, — скромно сказал г. Бернье, — но Леверрье, открыв при помощи вычисления планету, сделал не большее открытие чем я. Отгадать по виду вашего носа, что где-то пропадавший в Париже овернец предается разгулу, — значит заключить от следствия в причине при помощи путей, на которые еще не дерзала вступать человеческая сообразительность. Что касается лечения вашей болезни, то на него указывают обстоятельства. Диета, предписанная Романье, единственное средство, способное вас излечить. Случай удивительно нам помогает, потому что эта животное проело все до последнего су. Вы прекрасно сделали, что отказались помочь ему: все усилия искусства окажутся тщетными, пока у него будет на что выпить.
— Но, доктор, — прервал его г. Л’Амбер, — если причина моей болезни другая? если вы сами игрушка случайного совпадения? Разве вы не сказали мне, что теория...
— Я говорил, и повторяю, что при нынешнем состоянии наших знаний, нельзя найти логического объяснения вашей болезни. Требуется открыть закон представившегося факта. Отношение, которое мы наблюдаем, между здоровьем вашего носа и поведением этого овернца открывает для нас перспективу, быть может обманчивую, но в тоже время обширную. Подождем несколько дней: если ваш нос станет поправляться по мере исправления Романье, то моя теория будет подкреплена новой вероятностью. Я не ручаюсь ни за что; но я предчувствую новый доселе неизвестный физиологический закон, который я буду иметь честь формулировать. Наука полна видимых явлений, происходящих от неведомых причин. Отчего у г-жи де-Л., которую вы знаете не меньше моего, на левом плече имеется удивительный рисунок вишни? Потому ли, что, как говорят, её матери, когда она была беременна, страшно захотелось вишен, которые она увидала в окне фруктового магазина? Какой же невидимый художник нарисовал этот плод на теле шестинедельного зародыша, величиною всего с среднего роста кревета? Как объяснить это особое действие мира нравственного на мир физический? И почему у г-жи де-Л. эта вишенка болит и до неё нельзя дотронуться каждый год в апреле, в то время, как цветут вишни? Вот факты несомненные, очевидные, ощутительные, и столь же неизъяснимые, как опухоль и краснота вашего носа. Но терпение!
Через два дня опухоль носа г. Л'Амбера заметно опала, но краснота держалась упорно. С конца недели объем носа уменьшился на целую треть. Черев две недели, он стал страшно лупиться, показалась новая кожица, и нос приобрел прежние форму и цвет.
Доктор торжествовал.
— Единственно о чем я сожалею, — сказал он, — что мы не заперли Романье в клетку, чтоб наблюдать на нем, как на вас, действие лечения. Я уверен, что в течение семи, восьми дней он уж был покрыт чешуей.
— Чтоб его чорт побрал! — выразил христианское пожелание г. Л'Амбер.
С этого дня, он зажил по-прежнему; выезжал в карете и верхом, выходил пешком; танцевал на балах и украшал своим присутствием оперное фойе. Все светские и несветские дамы с радостью встречали его. Самым нежным образом поздравила его с выздоровлением, между прочим, старшая сестра друга Стеймбура.
Эта прелестная особа имела привычку глядеть мужчинам прямо в глаза. Она весьма рассудительно заметила, что г. Л'Амбер похорошел после последней болезни. Действительно, казалось, что двух или трех месячные страдания придали какую-то законченность его лицу. Особенно нос, этот прямой нос, вошедший в границы после несносного распространения, казалось стал тоньше, белее и аристократичнее, чем прежде.
Таково было мнение о красивом нотариусе, и он созерцал себя во всех зеркалах с постоянно возрастающим удивлением. Приятно было видеть, когда он стоял лицом против своего лица и улыбался своему собственному носу.
Но с возвращением весны, во второй половине мая, в то время, как живительный сок раздувал почки лилий, г. Л'Амбер невольно подумал, что единственно его нос лишен благотворного влияния весны и природы. В то время, когда все обновлялось, он вял как осенний лист. Его крылья становились худее, точно их сушил невидимый сирокко, и сближались с перегородкой.
— Проклятие! — восклицал нотариус, строя гримасу перед зеркалом, — деликатность вещь хорошая, но все хорошо только в меру. Мой нос стал до того деликатен, что внушает опасения; если я не возвращу ему силу и цвет, то он скоро станет тенью самого себя.
Он слегка его подрумянил. Но румяна выдали невероятную тонину прямой, лишенной толщины линии, которая делила его лицо на двое. Так возвышается тонкая и острая полоска кованного железа посреди солнечных часов; таков был и призрачный нос впавшего в отчаяние нотариуса.
Напрасно богатый уроженец улицы Вернель подверг себя самому существенному питанию. Принимая во внимание, что хорошая пища, переваренная исправным желудком, почти в равной степени приносит пользу всем частям нашего тела, он подчинил себя кроткому игу уничтожения крепких бульонов и омаров и множества кушаньев из кровавой говядины, орошая все это самыми чудными винами. Утверждать, будто эти изысканные яства не пошли ему на пользу, значило бы отрицать очевидность и клеветать на обжорство. Г. Л'Амбер вскоре наел прекрасные розовые щеки, отличную готовую для удара воловью шею и премилый кругленький животик. Но нос остался невнимательным или бескорыстным компаньоном, не желающим пользоваться барышами.
* * *
Когда больной не может ни есть, ни пить,