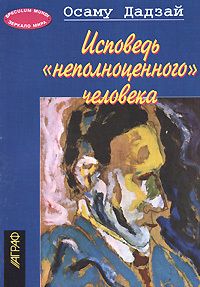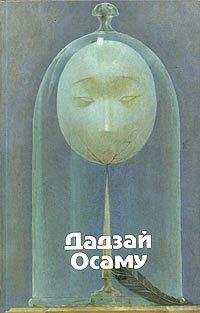ел под лестницей, в сырой комнате размером четыре с половиной татами – так поспешно, что слышался звон посуды.
Однажды вечером в конце марта Камбала, то ли на радостях от неожиданного барыша, то ли в качестве уловки (даже если верны оба предположения, подозреваю, имелось еще несколько менее значительных причин, догадаться о которых я бы не смог), позвал меня на ужин вниз, где в кои-то веки ждала керамическая бутылка сакэ и сасими из тунца, и под впечатлением своего радушия, нахваливая угощение, предложил своему вялому нахлебнику чуточку выпить.
– Ну и чем, скажи на милость, ты намерен заняться дальше?
На это я не ответил, подхватил пальцами с тарелки на столе татами иваси, заглянул в серебристые глаза спрессованных сушеных рыбешек, чувствуя, как внутри расплывается тепло от спиртного, и вдруг так отчаянно затосковал по развлечениям недавнего времени, даже по Хорики, и в особенности по «свободе», что едва не расплакался.
С тех пор как я поселился в этом доме, я утратил всякое стремление даже паясничать, только лежал в изнеможении, ощущая презрение Камбалы и парнишки; сам Камбала обычно избегал изливать душу в длинных разговорах, и у меня не возникало ни малейшего желания о чем-либо просить его или жаловаться, так что я вел себя почти как слабоумный приживала.
– Похоже, обвинение, которое тебе так и не предъявили, не будет считаться приводом или еще чем-нибудь в этом роде. Так что, как видишь, только от тебя зависит, начнешь ли ты все заново. Если ты исправишься и всерьез обратишься ко мне за советом, вот тогда я и подумаю.
В манере речи, присущей Камбале – нет, не только ему, но и всем людям в мире, – имелось нечто столь запутанное, смутное и сложное, в этой сомнительной путанице так чувствовалась готовность к отступлению, и эти вплоть до бесполезности строгие меры предосторожности и бесчисленные признаки мелочной торговли всегда озадачивали меня, пока мне не стало все равно, и я либо паясничал, обращая их в шутку, либо молча и согласно кивал, словно смиряясь с поражением.
В тот раз Камбала, обратившись ко мне, мог бы просто объяснить, как обстоит дело, о чем я узнал лишь в последующие годы, но его излишние предосторожности – нет, свойственная людям в этом мире непостижимая, показная одержимость приличиями – повергли меня в уныние.
Лучше бы он сказал: «Ты бы продолжил учебу с апреля – или в государственном заведении, или в частном. Будешь учиться – из дома станут присылать предостаточно денег тебе на жизнь».
Что именно так все и было, я узнал лишь позднее. Иначе последовал бы его совету. Но из-за неприятно настороженной, уклончивой манеры Камбалы выражаться моя жизнь совершила неожиданный поворот, и ее курс разительно изменился.
– Если ты не настроен всерьез обратиться ко мне за советом, ничего не поделаешь.
– За каким советом?
Я в самом деле не понимал, к чему он клонит.
– Ну, как же – о том, что у тебя на душе.
– То есть?
– То есть о том, чем бы тебе заняться дальше.
– А если работать – ничего?
– Нет, говори, чего тебе хочется.
– Но вы же говорили про учебу…
– Тогда нужны деньги. Дело не в деньгах. А в том, чего тебе хочется.
Почему он не сказал лишь одно – что деньги будут присылать из дома? Только эти слова – и я определился бы со своими желаниями, а так продолжал теряться в догадках.
– Так что же? Какие-нибудь мечты на будущее или вроде того. Они-то у тебя есть? Видно, незачем ждать от того, кому помогают, понимания, как это трудно – помогать другому в одиночку.
– Прошу прощения.
– Я в самом деле беспокоюсь за тебя. Раз уж я о тебе забочусь, не хочу видеть равнодушие с твоей стороны. Хочу, чтобы ты показал, как решительно идешь по пути к исправлению. То есть, если бы ты пришел ко мне с планами на будущее и всерьез попросил совета, я охотно помог бы тебе им. Само собой, если ты надеялся, сидя на шее бедняка Камбалы, швыряться деньгами, как прежде, то просчитался. Но если ты тверд в своих желаниях начать заново и на будущее у тебя есть четкие планы, пожалуй, я бы помог тебе исправиться, если бы ты обратился ко мне за советом, хоть я и мало что могу. Понимаешь, каково мне? Вот и скажи, наконец, чем же ты собираешься заняться дальше?
– Если вы не разрешите остаться у вас, буду работать…
– Ты что, серьезно? Да в наше время даже после имперского университета…
– Нет, служить в компании я не собираюсь.
– Кем же тогда?
– Художником, – смело выпалил я.
– Что-о?!
Мне никогда не забыть тень непередаваемого ехидства, скользнувшую по лицу Камбалы, пока он смеялся надо мной, втянув шею. Подобная тени презрения – или нет, если сравнить людской мир с морем, эта удивительная тень колыхалась бы в его бездонных глубинах, как нечто вроде низшей точки взрослой жизни, мельком увиденной благодаря этому смеху.
Я услышал, что обсуждать тут нечего, что со своими желаниями я еще не определился и должен думать как следует весь сегодняшний вечер, ушел к себе так поспешно, словно за мной гнались, лег в постель, но ничего особенного в голову так и не пришло. А на рассвете я сбежал от Камбалы.
«Вечером вернусь обязательно. Схожу к другу по адресу, указанному ниже, чтобы посоветоваться с ним о своих планах на будущее. Пожалуйста, не беспокойтесь. Это правда», – крупно написал я карандашом в блокноте, далее указал имя Масао Хорики, его адрес в Асакусе и крадучись вышел из дома Камбалы.
Сбежал я не потому, что разозлился на поучения Камбалы. В точности как он и сказал, я еще не определился со своими желаниями, понятия не имел о своих планах на будущее, и, кроме того, я сочувствовал Камбале, для которого стал обузой, и мне было мучительно думать, что ради шанса наконец-то расшевелить меня и побудить поставить перед собой цель бедняге приходится тратить скудные средства, каждый месяц выделяемые на мое исправление.
Но от Камбалы я ушел не для того, чтобы советоваться насчет тех самых «планов на будущее» с таким человеком, как Хорики. Просто из желания успокоить Камбалу, пусть даже ненадолго (при этом записку я оставил не столько из стремления выиграть немного времени и убежать подальше, как в каком-нибудь детективе, – нет, хотя и эта мысль у меня, безусловно, мелькала, – а точнее было бы сказать, просто потому, что боялся, как бы он не растерялся и не