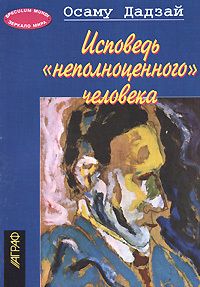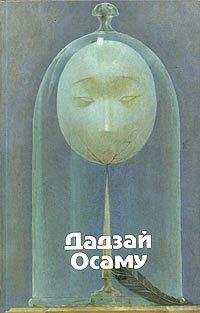обезумел от внезапного потрясения. Так или иначе, одной из моих прискорбных склонностей было как-нибудь приукрашивать истину из опасения сказать все как есть, хоть я и знал, что со временем все откроется; несмотря на то что подобное свойство люди презрительно называют «лживостью», таким приукрашиванием я никогда не пользовался ради собственной выгоды, но в атмосфере внезапной утраты интереса чуть не задыхался от страха и пусть даже знал, что потом это обернется мне во вред, из стремления «услужить», каким бы извращенным проявлением слабости и глупости оно ни выглядело, зачастую невольно прибавлял несколько слов украшения, и этим моим свойством широко пользовались так называемые «честные люди»), я указал внизу записки адрес и имя Хорики, всплывшие в тот момент из глубин памяти.
От дома Камбалы я пешком дошел до Синдзюку, продал унесенную в кармане книгу, а потом растерялся. Приятный в общении со всеми, чувств, называемых «дружескими», я так ни разу и не испытал, и если не считать тех людей, в чьей компании я развлекался, как с Хорики, приятельское общение приносило лишь муки, приглушая которые, я усердно паясничал, но только выбивался из сил и пугался, даже когда где-нибудь на улице мельком замечал знакомое или только показавшееся знакомым лицо, – в тот же миг на меня нападали противная дрожь и головокружение; я нравился людям, но сам, видимо, любить их был не способен. (Впрочем, сильно сомневаюсь, что людям в этом мире вообще присуща способность «любить».) Так что я никого не мог назвать «близким другом», мало того, был лишен даже возможности «навестить» кого-нибудь. Для меня двери чужих домов были вратами ада из «Божественной комедии», и я, без преувеличения, прямо-таки ощущал, как за ними извивается страшное, смердящее подобие дракона.
Я ни с кем не общался. Мне было не к кому пойти.
Кроме Хорики.
Вот так из отговорки и возник план. Как и говорилось в записке, я направился домой к Хорики в Асакусу. До тех пор сам я ни разу не бывал у Хорики дома и обычно звал его к себе телеграммой, но сейчас беспокоился, что даже телеграмма мне не по карману и с предвзятостью разорившегося гадал, не откажется ли Хорики прийти, если я ее дам, так что решился на самый ненавистный поступок, к которому был наименее способен, – на визит; со вздохом сел в трамвай, и когда до меня дошло, что Хорики – моя единственная надежда в этом мире, от нахлынувшего ужаса по спине побежали мурашки.
Хорики был дома. В двухэтажном строении, стоящем в глубине грязного сквозного проезда, он занимал только одну комнату в шесть татами на втором этаже, а внизу его пожилые родители и трое молодых работников шили и прибивали ремешки, изготавливая гэта.
В тот день Хорики явил мне новую сторону своей натуры столичного жителя. Таких людей обычно называют ушлыми. Меня, провинциала, буквально ошарашил его холодный, изворотливый эгоизм. Он был совсем не таким, как я, человеком, которого постоянно несет жизненным течением.
– Ну ты и удивил. Отец уже простил тебя? Еще нет?
Сказать, что сбежал, я не смог.
Как обычно, я сплутовал. Хоть и не сомневался, что Хорики скоро это поймет, но сплутовал.
– Как-нибудь утрясется.
– Слушай, это не шутки. Хочешь совет – бросай сейчас же эти глупости. И вообще, сегодня у меня дела. Последнее время я страшно занят.
– Дела? Какие дела?
– Эй, эй, хватит портить подушку!
За разговором я машинально теребил одну из ниток, какие торчали из всех четырех углов дзабутона [5], – кажется, они называются не то обметочными, не то отделочными, – дергал за нее и тянул. В своем доме Хорики, видимо, дорожил каждой вещью до последней нитки в подушке, и ничуть не смущаясь, с упреком уставился на меня. Если вдуматься, до сих пор в общении со мной Хорики ничего не терял.
Его пожилая мать принесла на подносе сируко.
– А, ну вот! – И Хорики сердечным тоном преданного сына продолжал благодарить мать до неестественности вежливо: – Извини, что тебе пришлось сируко готовить. Замечательно! Хотя незачем было так беспокоиться. Мне ведь сейчас уходить по делам. Но не пропадать же такому украшению стола, как сируко. Спасибо, с удовольствием попробую! А ты не желаешь? Матушка старалась, готовила. О-о, вкусно-то как! Замечательно!
Он ел с неподдельным удовольствием, без малейшего притворства, словно ему и впрямь было вкусно. Я глотнул сируко: оно отдавало горячей водой, а когда я попробовал моти из него, оказалось, что это вовсе не моти, но что, я так и не понял. Бедность я ни в коем случае не презираю. (В то время угощение не показалось мне невкусным, мало того, я счел его знаком внимания со стороны пожилой матери Хорики. Бедность внушает мне страх, но у меня и в мыслях нет презирать ее). Это сируко и то, как смаковал его Хорики, дали мне понять, как скуповат по натуре столичный люд, и что жителям Токио свойственно четко разграничивать то, что входит в круг их семьи, и то, что находится за его пределами; я, недоумок, вечно избегающий человеческой жизни и потому неспособный отличить принятое «дома» от принятого «вне дома», расценив это как знак, что даже Хорики отказался от меня, растерялся, и, помнится, пока подхватывал сируко облупившимися лакированными палочками, мне было невыносимо тоскливо.
– К сожалению, у меня сегодня дела, – сказал Хорики, вставая и надевая пиджак. – Пора прощаться, уж извини.
В этот момент к Хорики явилась гостья, и мое положение враз переменилось.
Хорики внезапно оживился:
– О, прошу прощения. А я как раз сейчас думал навестить вас, как вдруг ко мне пришли – нет, вы не помешаете. Проходите, прошу вас.
Он явно засуетился, и когда я встал с подушки, на которой сидел, перевернул ее и протянул гостье, он выхватил подушку у меня, снова перевернул прежней стороной вверх и предложил женщине сам. В комнате имелась только одна подушка для гостей, на второй сидел сам Хорики.
Женщина была худощавой и высокой. Отложив подушку, она села в углу у двери.
Разговор этих двоих я слушал невнимательно. Видимо, женщина работала в журнале, который какое-то время назад заказал Хорики небольшую иллюстрацию или нечто в этом роде, и теперь прислал гостью за заказом.
– Нам бы побыстрее.
– Она готова. Уже некоторое время готова. Вот, пожалуйста.
Принесли телеграмму.
Пока Хорики читал ее, благодушие у него на лице стремительно сменялось мрачностью.
– Э, слушай-ка, что это такое?
Телеграмму прислал Камбала.
– В общем, возвращайся сейчас же. Я бы сам отвел тебя, но времени нет. Сбежал