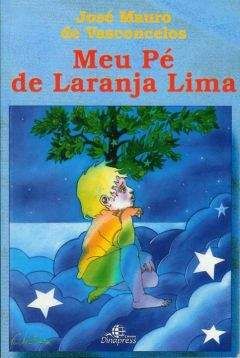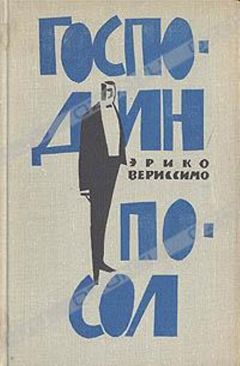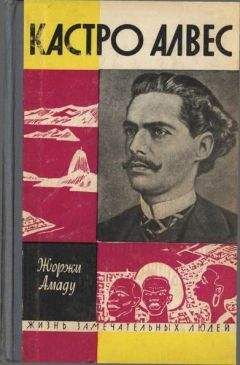— Давай, давай, лошадка. Скачи, скачи. Туда идут наши друзья апачи, вздымая пыль над дорогой. Бах, бах, бах! Кавалькада индейцев производила варварский шум.
Скачи, скачи, лошадка, равнина заполнена бизонами и буйволами. Начнем стрельбу мой отряд, бах, бах, бах!.. Пурн, пум, пум!.. Фью, фью, фью! Свистят стрелы…
Ветер, галоп, сумасшедшая скачка, тучи пыли и голос Луиса, почти кричащий:
— Зезé! Зезé!..
Я медленно остановил лошадь и спрыгнул вынужденный приостановить свой подвиг.
— Что случилось? Какой-то буйвол шел на тебя?
— Нет. Давай играть в другое. Здесь много индейцев и мне страшно.
— Но эти индейцы апачи. Все друзья.
— Но мне страшно. Слишком много индейцев.
Первые дни я выходил немного пораньше, чтобы избежать опасности встретиться с Португальцем, остановившимся на своей машине купить сигареты. Кроме того, я был достаточно осторожен, и ходил по краю улицы на противоположной стороне, почти закрытой тенью живой изгороди, которая соединяла фасады домов. И едва дойдя до Рио-Сан Пабло, я срезал дорогу и шел с теннисными тапочками в руках, почти приклеившись к огромной стене Фабрики. Все эти предосторожности по прошествии дней стали бесполезны. Память улицы коротка и спустя немного никто уже не помнил шалости малыша дона Пабло. Потому что было так, что меня знали только в момент обвинения: «Это был малыш дона Пабло»… «Этот был проклятый малыш дона Пабло»… «Был этот малыш дона Пабло»… Однажды вообще придумали ужасную вещь: когда «Бангу» получила разнос от «Андараи»[29], шутя, говорили: «Бангу» получил больше, чем этот малыш дона Пабло…
Иногда я видел проклятый автомобиль, остановленный на углу, и задерживал шаг, чтобы не увидеть, как идет Португалец, которого я убью, как только вырасту, несмотря на его важный вид хозяина автомобиля самого красивого в мире и в Бангу.
Это случилось, когда он исчез на несколько дней. Какое облегчение! Наверняка он уехал далеко или был в отпуске. Я снова начал ходить в школу со спокойным сердцем, и уже не был уверен, стоило ли убивать этого человека позже. Но одно было точно: каждый раз, когда я влезал на автомобиль меньшего достоинства, уже не чувствовал такого восторга, как раньше, а мои уши начинали мучительно гореть.
Между тем, жизнь людей и улицы шла своим чередом. Пришел сезон бумажных змеев и, о «улица — почему я тебя люблю!». Голубое небо днем расцвечивалось звездочками самыми красивыми и разноцветными. В сезон ветров, Мизинец отходил немного в сторону, и встречался я с ним только, когда на меня налагали покаяние после очередной хорошей взбучки. В этом случае я не пытался прятаться, потому что одно битье за другим были очень болезненны. В такие моменты, я шел с королем Луисом украшать, а точнее одевать в золотую сбрую (эти слова мне нравились больше), мое дерево апельсина-лима. К слову сказать, Мизинец сильно вытянулся и скоро, очень скоро он зацветет и даст фрукты для меня. Другие апельсины сильно задерживались. Как говорил мой дядя Эдмундо, мое дерево апельсина-лима было «скороспелкой». Потом, он объяснил мне, что это означает: это когда что-либо происходит на много раньше, чем другое. Вообще то, мне кажется, что он не смог мне объяснить это правильно. Речь идет всего на всего о том, что нечто опережает…
И тогда я брал куски веревки, остатки ниток, дырявил кучу бутылочных крышек, чтобы одеть Мизинца в золотую сбрую. Это надо было видеть, какой красивый он становился!
Ветер, ударяя их, сталкивал одну крышечку с другой, и казалось, что на мне были серебряные шпоры Фреда Томпсона, когда он садился на свою лошадь «Луч Луны».
Жизнь в Народной Школе тоже шла очень хорошо. Я знал все национальные гимны на память. Самый большой из всех был тот, настоящий; другие, национальный гимн Флага и национальный гимн «Свобода, свобода, распахни свои крылья над нами». Последний, мне и думаю, что Том Миксу также, нравился больше всех. Когда он шел верхом, не на войне и не на охоте, то он уважительно просил меня:
— Давай, воин Пинагé, спой гимн Свободы.
Мой голос, довольно тонкий, заполнял собою огромную равнину, и был намного красивее, чем когда я пел с доном Ариовальдо, работая по вторникам помощником певца.
Как обычно, по вторникам я пропускал уроки в школе, чтобы встретить поезд, который вез моего друга Ариовальдо. Он, еще спускаясь по лестнице, показывал мне в руках буклеты для продажи на улицах. А еще в запасе, он тащил две полные сумки. Почти всегда, продавали все, и это наполняло нас обоих огромной радостью…
В перерывах, если было время, то мы играли даже в шарики. В этом я был, как это называется, экспертом. У меня был уверенный прицел и почти никогда я не возвращался домой без мешочков звенящих шариками, много раз даже утраивал их количество.
Однако самой потрясной была моя учительница, донья Сесилия Пайм. Сколько ей ни говорили, что я самый большой урод в мире, она не верила. Как не верила и в то, что никто не может сказать непристойностей, больше меня. А с тем, что ни один мальчик не сравнится со мною в шалостях, она вообще никогда не соглашалась. В школе я был ангелом. Никогда меня не отчитывали, и я превратился в любимца учителей, как самый маленький ученик, когда-либо до этого времени, появлявшийся здесь. Донья Сесилия, понаслышке знала о нашей бедности и в час обеда, когда видела, что все ели, то переживала и всегда отзывала меня в сторону и посылала купить пирожное с начинкой в кондитерскую. Она чувствовала ко мне такую любовь, что мне кажется, я вел себя хорошо, только потому, чтобы не разочаровать ее…
Вдруг, это произошло. Я шел медленно, как всегда, по шоссе Рио-Сан Пабло, когда огромный автомобиль Португальца прошел очень близко от меня. Рожок просигналил три раза, и я видел, как это чудовище, смотрело на меня, улыбаясь. Это вновь оживило мою злость и желание убить его, когда вырасту большим. Я сделал серьезное лицо, а моя гордость не позволила мне заметить его.
Было, как я говорю тебе, Мизинец. Каждый Божий день. Похоже, что он ждет, когда я пройду, чтобы проехать мимо, сигналя в рожок. Сигналит три раза. А вчера даже сделал мне рукой, прощай.
— А ты?
— Не обращаю внимания. Делаю вид, что не вижу его. Он уже начинает бояться; смотри, ведь мне скоро исполнится шесть лет и я сразу же стану взрослым.
— Ты думаешь, он хочет стать твоим другом из-за страха?
— Подожди, пойду, поищу ящичек.
Мизинец сильно вырос. Чтобы подняться на свое сиденье уже нужно подставлять внизу ящичек для чистки обуви.
— Готово, теперь давай разговаривать.
С высоты, я чувствовал себя королем мира. Водил взглядом по пейзажу, по выгону, по птицам, которые прилетали в поисках корма. Ночью, едва только темнело, как другой Лусиано начинал кружиться над моей головой, как будто он был самолетом с «Поля двух Афонсо». По началу, даже Мизинец изумлялся, тем, что я не боялся летучей мыши, так как в основном, все дети боятся. Однако уже несколько дней, как Лусиано не появлялся. Наверняка он отыскал другие «поля двух афонсов» в других местах.
— Видел, Мизинец, гуйавы[30] в доме Черной Еугении начинают желтеть. Уже время гуйавы. Плохо, что она меня может поймать. Мизинец. Сегодня я уже получил три подзатыльника. Здесь я, потому что меня наказали…
Однако черт меня попутал и подтолкнул к ограде, где были деревья. Вечерний ветерок донес (или создавать) запах гуйавы до моего носа. Смотри здесь, одна ветка наклонилась сюда, слушай, чтобы не было шума,… и черт мне говорит: «Иди, глупый, разве не видишь, что никого нет? А сейчас она пошла в продуктовый магазин японки. Дон Бенедикто? Да чего ты! Он почти глухой и слепой. Ничего не видит. У тебя будет время сбежать, если тебя обнаружат…».
Прошел вдоль ограды вплоть до рва и решился. Но прежде дал знак Миндиго, что бы не создавал шума. В этот момент мое сердце учащенно забилось. Черная Еугения не любила шутить. Какой у нее был язык, знал только Бог. Я передвигался шаг за шагом, когда из окна кухни раздался ее громкий голос.
— Это что такое, мальчик?
— У меня даже не возникла мысль соврать ей, сказав, что ищу мяч. Я бросился бежать и не думая, прыгнул в середину рва. Чуть дальше меня ожидало нечто другое. Боль, такая сильная, что я чуть не закричал; но если бы я это сделал, то меня ожидало бы двойная расплата: первое, за то, что сбежал от наказания; второе, потому что воровал гуйаву в доме соседа. Только что в мою левую ногу вонзился кусок стекла.
Все еще оглушенный болью, я вырвал кусок стекла. Тихо стонал и шел, смешивая кровь с грязной водой канавы. А что теперь? С глазами полными слез я смог вытащить вонзившееся стекло, однако не знал, как остановить кровь. Я с силой сжимал лодыжку, чтобы уменьшить боль. Надо было стойко все вынести. Приближалась ночь, с которой возвращались папа, мама и Лалá. Кто бы меня не нашел в этом состоянии побьет меня; возможно даже каждый из них задаст мне трепку. В замешательстве я поднялся наверх, и уселся прыгая на одной ноге под моим деревом апельсина-лима. Все еще сильно болело, но рвотные позывы уже прошли.