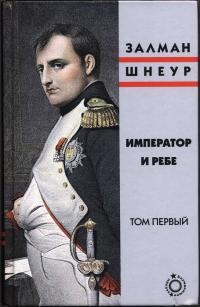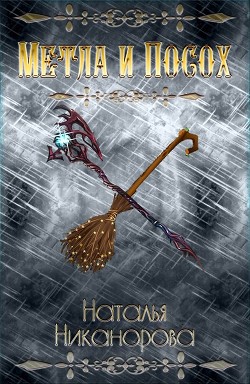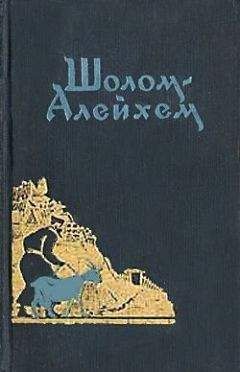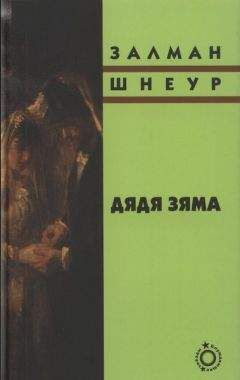тебя от обета прямо на месте.
— Нет, — холодно отрезала Эстерка, — пока Алтерка не достигнет возраста бар мицвы… Я приняла на себя обет.
— Ну-ну-ну!.. — Реб Нота совсем растерялся и остался стоять, опустив руки, напротив невестки. На ее красивом лице он увидел жесткое выражение, а в синих глазах — острую сталь, против которой не помогают никакие слова на свете.
2
С нелепой клятвой, вырвавшейся у нее, приподнятое настроение Эстерки исчезло, у нее опустились руки. Далекий свет двух влюбленных глаз, ждущих ее в заснеженном Шклове, померк. На нее напало равнодушие. Она больше не интересовалась тем, все ли необходимое для дальней поездки уложено. Как приговоренная, уселась она в княжескую кибитку. Печально тащилась большая кибитка, запряженная четырьмя лошадьми, по ровной дороге. Когда дорога шла в гору, то запрягали шесть и даже восемь лошадей. Тогдашняя кибитка была целым маленьким домиком, построенным на широких санях, с окошками и занавесками со всех сторон. Внутри нее были кровать, стол и всяческие удобства. Такими кибитками пользовались магнаты, крупные государственные деятели и богачи для дальних поездок по широкой заснеженной России. Лошадей меняли на всех больших станциях, а две лошади «в запас» всегда бежали сзади. На одной из них скакал приказчик, которого реб Нота послал охранять свою невестку и внука, а впереди него — двое других слуг на лошадях.
В короткие зимние дни — если это был хороший снежный день с морозцем — такая махина проходила по пятьдесят-шестьдесят верст, а при оттепели, когда снег становится влажным, а путь — шершавым, по тридцать верст и меньше. Те примерно двенадцать сотен верст, которые отделяют российскую столицу от Шклова, с бездорожьем, с трапезами у дороги и с ночевками в корчмах, предполагалось пройти за четыре недели. И это только зимой шло «так быстро». Летом, в жару и в дожди, такая же кибитка на колесах тащилась намного дольше по русским дорогам и гораздо больше мучала пассажиров пылью, грохотом и безжалостной тряской. Поэтому дальние, но не срочные поездки всегда откладывали на зиму.
В кибитке с Эстеркой были только ее родственница Кройндл и шестилетний сын Алтерка. Кройндл занималась ведением маленького дорожного хозяйства: она распаковывала и снова запаковывала еду, застилала узкие кровати. Поэтому у Эстерки было много свободного времени на раздумья. Вся ее предыдущая жизнь пробегала у нее перед глазами, как пробегали голые березы по обе стороны дороги. Дорога была сносная, без ям. Как рассказывали люди, это Екатерина приказала привести в порядок дорогу и посадить по обочинам деревья, чтобы ей самой было удобнее тайно добираться к ее бывшему возлюбленному, когда-то красивому сербу и нынешнему русскому генералу Зоричу в Шклов.
Подъехав к Гатчине, первой большой станции после Петербурга, служившей резиденцией наследника российского престола, кибитка Эстерки вдруг остановилась. Широкий тракт пересекала другая дорога, а по ней двигался военный парад гатчинского гарнизона. Мимо окошек кибитки с барабанным боем странным, неестественным шагом больших кукол или дрессированных лошадей в цирке маршировали роты. Все солдаты — в белых париках с косичками и лентами на красных затылках, с красными стоячими воротниками, в обтягивающих рейтузах и в густо усеянных пуговицами гетрах поверх сапог. Тяжелые патронташи, полные свинцовых пуль и пороха, на обоих боках; а на измученных спинах — двухпудовые пищали или кремневые ружья. Печальное и в то же время комичное впечатление производили потные, измученные лица солдат — по большей части крепостных крестьян — на этом маскараде, устраиваемом для высшего общества, в напудренных париках под треуголками с перьями и в толстых, наполовину распахнутых камзолах на крестьянских животах. Барабанщики лупили по похожим на бочонки барабанам, висевшим наискосок у них над коленями и мешавшим им идти. Их кукольные ноги не поднимались, как у других солдат.
Вдруг к первому ряду барабанщиков приблизился верхом взбешенный офицер в белой шинели с большой золотой звездой на груди и хрипло крикнул:
— Стой, канальи!
Барабаны сразу же смолкли, весь строй солдат остановился. Тяжелая казачья нагайка в руке всадника взметнулась высоко вверх и, как черная молния, ударила пожилого барабанщика по голове. Армейская треуголка слетела, из-под грубо напудренного парика заструилась кровь. Однако побитый барабанщик даже в лице не изменился, не сделал и движения, чтобы вытереть кровь. Он продолжал стоять, как большая деревянная кукла, вытянувшись в струнку, и струйка крови текла через его закрытый глаз на похожий на бочку барабан.
Однако ярость все еще кипела во взбешенном офицере. Его не удовлетворила пролитая кровь солдата. Поэтому он спрыгнул с седла и, держа лошадь под уздцы той же рукой, в которой сжимал нагайку, схватил другой побитого барабанщика за длинные седые усы и принялся таскать его за них туда-сюда. Голова старого солдата покорно моталась от плеча к плечу не как живая, а как какой-то мяч, которым играла эта рука в белой перчатке.
Эстерка содрогнулась от такой жестокости. Это напомнило ей грубость других рук, теперь уже гниющих в земле, которые рвали на ней шелковые платья, не щадили ее, когда она сопротивлялась. Алтерка расплакался, принялся стучать от волнения в окошко. Кройндл бросилась успокаивать обоих. А приказчик на коне, главный охранник, которого реб Нота послал вместе со своей невесткой и внуком, бледный как мел, постучал в дверцу и предупредил без слов, чтобы они вели себя тихо… А сам, как заяц, затаился за большой кибиткой.
Излив свою неуемную ярость на старого барабанщика, взбешенный офицер повернул свое красное лицо к кибитке, и Эстерка увидала через окошко пару беспокойных черных глаз с яркими белками, продернутыми сеточкой кровеносных сосудов. Мрачное подозрение пряталось в этих глазах, как у человека, который гоним сам и не уверен ни в ком. Уголки его узкого рта были опущены устоявшимся презрением ко всему и ко всем, даже к пролитой крови… Можно было подумать, что он только что раздавил какую-то крупную мерзкую тварь, а не безжалостно избил человека.
Близость проезжающей богатой кибитки к военному параду, видимо, показалась ему наглостью. Поэтому он повелительно задвигал своим бритым подбородком, поднял нагайку и замахнулся на кучера и лошадей. Но, заметив страх двух красивых дам в запертой карете, приложил два пальца, обтянутых перчаткой, к своей треуголке и галантно отдал им честь. После этого сразу же развернулся, одним прыжком вернулся в седло и хрипло выкрикнул команду.
Весь военный парад двинулся под барабанный бой, смешно поднимая ноги, как дрессированные лошади в цирке. Офицер командовал своим хриплым горлом: «Ать-два! Ать-два!» — как будто стрелял из пистолета. Вышколенная лошадь под ним стучала в такт подковами. Пропустив