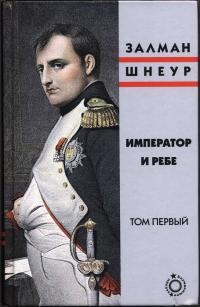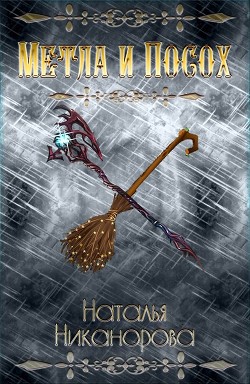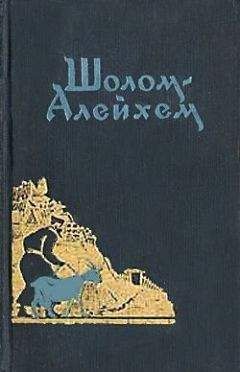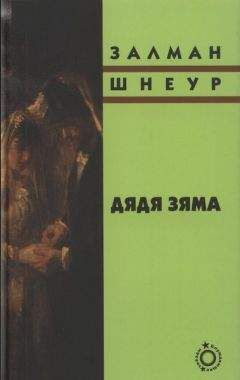покойным сыном, когда тот еще был жив. Кроме того, реб Нота получил очень плохие вести из русской ставки в Новороссии, куда он и реб Йегошуа Цейтлин поставляли многие тысячи подвод с фуражом для русской армии. Реб Йегошуа Цейтлин писал оттуда, что умный и добрый фельдмаршал Потемкин, который всегда стеной стоял за своих еврейских откупщиков и поставщиков, в последнее время прямо умом тронулся: валяется целыми днями в лагере без парика и без формы, одетый в турецкий халат, окруженный полуголыми девицами, пишет вирши, пьянствует и плачет…
Далее реб Йегошуа Цейтлин писал, что ему надоела жизнь в таком беспорядке и в такой неуверенности в завтрашнем дне. Он ясно видит, что не на кого больше полагаться, и подумывает свернуть все дела и поселиться в своем «имении» в Устье, неподалеку от Шклова. До сих пор, писал он, он все делал ради успеха в этом мире. Теперь уже пришло время сделать что-то и для мира Грядущего…
Чтобы спасти то, что еще можно было спасти, реб Нота принял три решения. Во-первых, поселиться здесь, в Петербурге, поближе к высокому начальству и к государственной казне. Во-вторых, как можно быстрее привезти сюда реб Мордехая Леплера, его свата, и вести дела с ним вместо уставшего компаньона, сидящего в Новороссии. Ведь реб Мордехай Леплер давно рвется сюда. С тех пор как Эстерка вышла замуж, ему хочется сменить польскую провинцию в Подолии на российскую столицу. Самое время сделать это.
В-третьих, реб Нота решил не оставлять пустым свое большое хозяйство в Шклове и отправить туда свою красивую невестку, ставшую теперь вдовой. Таким образом не прервется нить, связующая его с родным городом в Белоруссии, который он так любит. Его внук получит там надлежащее еврейское воспитание, а Эстерка сможет отдохнуть и прийти в себя. И кто знает? Может быть, со временем для нее найдется подходящая новая партия. Перемена места — перемена счастья… [44] Брат Боруха Шика очень подошел бы для нее. Достойный человек, к тому же приближенный к генералу Зоричу и пользующийся влиянием в Шклове и в его окрестностях. Но об этом еще рано говорить. Пусть она немного передохнет, а там видно будет…
За план переехать в провинцию Эстерка ухватилась, как утопающий за соломинку. Нездоровый воздух столицы опротивел ей. Слишком много бед и позора пришлось ей пережить здесь. Для ее мечтательной натуры, тоскующей по родному местечку, лес, шум реки и кукареканье петухов по утрам намного полезнее, чем пыль этого недавно замощенного города летом, чем его холодные туманы осенью и его потная духота долгими зимними ночами. Многоязыкая иноверческая суета, искатели карьеры и одиночество узкого еврейского круга, делающего «снаружи» все, чтобы понравиться петербургскому обществу, а у себя дома — все, чтобы понравиться еврейскому Богу, все это тоже не было ей по сердцу. «Местечковая красавица» — так называл ее Менди, когда хотел уколоть. И это действительно так. Она не стыдится своих скромных вкусов… В Шклове, как она слышала, есть река — одна из величайших русских рек, Днепр… И не только Днепр, но и озеро там есть. А между рекой и озером лежит еврейский город со множеством синагог и ешив. А вокруг — леса, где пасутся стада коров и где можно встретить диких оленей…
С облегчением она начала собираться в дорогу. А реб Нота Ноткин с удовлетворением заметил, что его овдовевшая невестка снова расцветает, светится. А он-то думал, что выкорчевать ее из Петербурга и пересадить в другое место будет нелегко. Спроси любую молодую женщину в провинции, где она хочет жить — в маленьком местечке или в столице империи? Ведь все же, как одна, выберут большую и якобы веселую столицу…
И она уехала, в добрый час, его красивая невестка, забрав единственного сына и Кройндл, свою родственницу. И реб Нота не раскаялся в своем решении. Он сделал удачный выбор. Вскоре ему сообщили, что его большой запущенный дом в Шклове управляется на широкую ногу и по-еврейски, точно так же, как он управлялся при нем.
И Эстерка тоже не раскаялась. В Шклове она отдохнула, залечила свое настрадавшееся сердце, расцвела во всем своем женском великолепии. И в Шклове она встретила того, кого потеряла в отцовском доме. Йосефка Шик, ее бывший учитель, нашел ее там.
1
Не так легко давался Эстерке ее внутренний «покой». Она достигала его тяжелой борьбой. Это был напряженный покой человека, давшего обет идти против природы, хрупкое равновесие весов с подвешенным на тоненькой веревочке грузом. Один легкий толчок — и все переворачивается и падает… Иначе позднее с Эстеркой не могло бы случиться того, что отодвинуло в тень ее несчастное замужество и жизнь с больным, необузданным человеком…
Уже одно долгое путешествие из Петербурга в Шклов не было таким уж простым и легким, как мог подумать реб Нота Ноткин, обеспечивая свою красивую невестку всеми удобствами. Эта поездка несла в себе много семян последующих переживаний.
Еще в то время, когда Эстерка паковала вещи, готовясь к отъезду из Петербурга, она однажды за столом услыхала имя, от которого кровь прилила к ее бледному лицу. Рассказывая о своем родном городе, расхваливая шкловскую еврейскую общину, реб Нота Ноткин вскользь упомянул, что хороший доктор — дай Бог, чтобы нам он не потребовался, — там тоже есть. Реб Борух Шик, его товарищ по хедеру, который уже в возрасте двадцати четырех лет имел диплом раввина, уехал потом за границу, закончил в Англии университет со специализацией по медицине и написал множество научных трудов на древнееврейском языке, [45] которым радовался сам Виленский гаон реб Элиёгу. Он изучал по ним геометрию и астрономию и все премудрости света и благодарил за это автора. Так вот этот самый реб Борух сейчас в Шклове. Он стал там главным лекарем при генерале Зориче и имеет большой успех во всей округе. Он ничем не хуже тутошнего немца — доктора Кизеветтера, который так и пыжится от гордости… И более того, прежде, когда в Шклове выписывали лекарство, за ним приходилось ехать за тридцать верст в Могилев. Теперь, с тех пор как брат доктора Шика приехал из-за границы, окончив университет, и открыл аптеку, выписанные лекарства можно получать на месте.
Эстерка выслушала слова тестя с часто стучащим сердцем и опустила глаза в тарелку. Но реб Нота Ноткин, похоже, ничего не заметил. Он расчесывал свою холеную жидкую бородку пятерней и продолжал рассказывать:
— Шклов, не