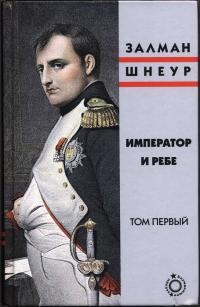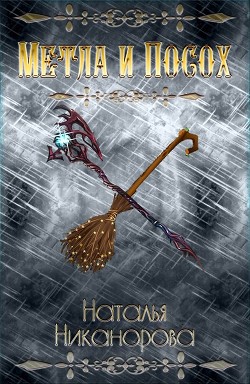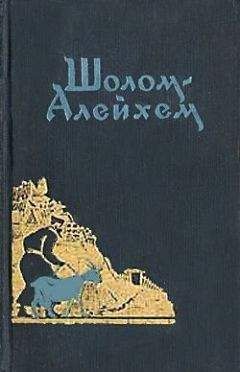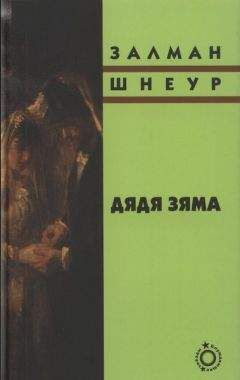близорукие глаза — водянистый глянец. Каждый лучик света, каждый отблеск от зеркала, снега или лишней зажженной в доме свечи вызывали у него боль. Длинная нижняя челюсть, столь характерная для всех Ноткиных, у Менди болезненно выдвинулась вперед, создавая впечатление постоянной напряженности. Он стал жаловаться на боли в спине, усталость после сна, головную боль после еды. Начал лечиться вне дома и скрывал это, как большую тайну. Наконец, когда ему не стало лучше, а Эстерка пристала к нему с вопросами, он пошел на то, чтобы пригласить домой знаменитого немецкого врача Кизеветтера. Тот был в моде у всего Петербурга. Но жену Менди все-таки не допускал к себе во время таких визитов. Он запирался с врачом в кабинете точно так же, как с отцом, когда тот ловил его на чрезмерных тратах… Эстерка беспокойно прислушивалась к гладенькому шепоту Менди и к медленным рычащим вопросам врача, которые тот вставлял время от времени, и ничего не понимала.
— Знаете ли… — задумчиво говорил по-немецки врач, когда больной замолкал, а выражало ли это «знаете ли…» утешение или обеспокоенность, Эстерка толком не могла понять.
Однако, так или иначе, больному стало легче. Об этом можно было судить по тому, что он снова принялся ругаться с ней, вернулся к своим желаниям и к странным аппетитам. И Эстерка уже было подумала, что дело действительно пошло на поправку… Однако неожиданно эта вера в «улучшение» лопнула, и жизнь Эстерки, которая и прежде была достаточно несчастной, окончательно встала с ног на голову.
Однажды посреди ночи, после ставшего привычным скандала из-за ее местечковой набожности и холодности, Менди, как стало уже обычным в последнее время, схватил свою подушку и ушел в кабинет спать на диване. Назло жене и себе самому. Эстерка привыкла к подобным выходкам и сразу же заснула. В глубине души она была довольна тем, что в последнее время он хотя бы не убегает из дому и не ночует черт знает где.
От чуткого сна ее вдруг пробудили сливавшиеся вместе голоса: крик о помощи и рев взбесившегося человека-зверя. Крики раздавались из каморки Кройндл — за две двери от хозяйской спальни.
Эстерка, как безумная, вскочила с кровати, бросилась к двери и в одной ночной рубашке побежала в темноте, натыкаясь на стулья и шкафы. Она едва успела добежать, как дверь перед ней распахнулась, и ей навстречу, всхлипывая и сопя, выскочила Кройндл и тут же наткнулась на нее в темноте. Обе они одновременно вскрикнули и ухватились друг за друга. Кройндл дрожала, как осиновый лист. Ее ночная блузка была разорвана, рубашку она вообще где-то потеряла.
— Что случилось?! Что случилось?! — дрожа, как и она, спросила Эстерка, и ее волосы встали дыбом под ночным чепчиком.
— С-с-спряч-ч-чьте м-м-меня!.. — ответила ей Кройндл, стуча зубами.
Они вместе вбежали в спальню Эстерки и заперлись. Только здесь у Кройндл начались настоящие спазмы рыданий. Она упала на толстый персидский ковер и зашлась в истеричном плаче. Эстерка встала на колени, склонившись над ней и обнимая ее. Две молодые женщины, хозяйка и служанка, плакали, обнявшись и полулежа на покрытом ковром полу. Им уже не надо было разговаривать о том, что произошло. Они понимали друг друга без лишних слов.
1
Потом выяснилось, что до настоящего несчастья этой кошмарной ночью дело не дошло. Приставания Менди к Кройндл напугали ее до смерти, причем ужас от первого же прикосновения привел ее в полубессознательное состояние. Она быстро пришла в себя и стала сопротивляться со всей гибкостью и силой своего молодого тела. Свихнувшийся бабник не рассчитывал на такое сопротивление. Вероятно, поэтому он так и взбесился, рычал, рвал и дрался. Она боролась с ним всеми средствами, защищалась зубами и ногтями, пока ей не удалось вырваться из его рук, как из проломленной ограды, и скрыться.
Потом, когда все уже закончилось, Эстерка много раз утешала ее, говорила, чтобы та не боялась. Слава Богу, ведь могло быть хуже. Отныне она будет спать у нее. И пусть она больше об этом не думает. Не на кого обижаться. Ведь она видит, что творится с хозяином… Он только наполовину человек!
Но Кройндл не стало легче от всех этих слов утешения. От той ночи у нее осталось тяжелое ощущение нечистоты и постоянное желание помыться. Она не могла равнодушно смотреть на воду. Увидав чистую воду в миске, тут же подходила и принималась намыливаться. Так она мылась в своей каморке, на кухне под рукомойником, у Эстерки в спальне. Она мылась и плакала.
— Кройнделе, сердечко мое! — обнимала ее Эстерка. — Что с тобой?
— Пятно… — всхлипывала Кройндл.
— Где ты видишь пятно?
— Вот здесь. Посмотрите, посмотрите… И здесь тоже.
Немецкий врач, который снова принялся лечить больного хозяина, был приглашен и к Кройндл. Он выслушал все, что Эстерка ему потихоньку рассказала, покачал щекастой головой и, по своему обыкновению, сказал:
— Знаете ли!..
Как-то не по-доброму, но и не зло. Он велел делать больной холодные ванны, давать ей легкую еду и выписал какое-то солоноватое лекарство…
Эстерка, со своей стороны, очень сблизилась с Кройндл. И прежде Кройндл занимала особое место среди домашней прислуги, теперь же рухнули последние преграды между хозяйкой и служанкой. Общая тайна сблизила их намного сильнее, чем прежде — дальнее родство. Общее несчастье почти уравняло их в правах. И более того… Эстерка чувствовала себя виноватой в том, что в ее доме была совершена такая гнусность в отношении ребенка, которого она взяла из родительского дома под свою защиту. Она упрекала себя, что недостаточно берегла это дитя и слишком доверяла своему душевнобольному мужу. Ведь она, как никто в доме, знала, насколько буйным становится Менди, когда теряет свою и без того неумную голову.
Поэтому Эстерка очень старалась искупить свою «вину»: тем, что пыталась вылечить Кройндл от постоянной подавленности, тем, что утешала ее, наряжала так же, как наряжалась сама, тем, что передавала в ее распоряжение один ключ за другим. Однако в глубине души Эстерка знала, что никогда не «расплатится»…
Несмотря на то что Эстерка чувствовала себя сейчас очень неуверенно в отношении Кройндл, она, тем не менее, старалась повлиять на нее с тем, чтобы замолчать все это дело: для реб Ноты и всех остальных все должно было оставаться как было. Даже для иноверческой домашней прислуги нашли объяснение, что, мол, у хозяина был такой приступ, что «барыня» с «барышней» сильно перепугались… Прислуга и так уже была привычна к ночным похождениям