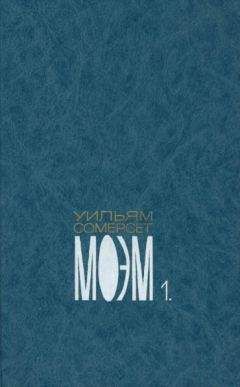Ознакомительная версия.
— А ну-ка, Филип, сию же минуту выходите! — закричала она, словно он был мальчишкой на ее попечении.
И, когда он подплыл поближе, смеясь над ее повелительным тоном, она его пробрала:
— Разве можно так долго купаться? Губы совсем синие — поглядите, у вас зуб на зуб не попадает!
— Ладно, выхожу.
Она никогда еще так с ним не разговаривала. Казалось, то, что между ними произошло, давало ей какую-то власть над ним, она стала относиться к нему как к ребенку, о котором надо заботиться. Через несколько минут они оделись и пошли домой. Салли посмотрела на его руки.
— Глядите, они у вас совсем синие.
— Ерунда. Просто кровообращение чуть-чуть нарушено. Через минуту все будет в порядке.
— Дайте-ка их мне.
Она взяла его руки в свои и стала их тереть, сначала одну, а потом другую, пока они не порозовели. Растроганный Филип, недоумевая, наблюдал за ней. Из-за детей он не мог ей ничего сказать, а поймать ее взгляд ему никак не удавалось; он был уверен, что она и не думает прятать от него глаза, просто так получалось. И в течение всего дня она ничем не показала, что ощущает новизну их отношений. Разве что была чуть-чуть разговорчивее обычного. Когда они пришли работать на хмельник, Салли пожаловалась матери, какой Филип непослушный: он не хотел вылезать из воды, пока не посинел от холода. Невероятно, но эта ночь ее ничуть не изменила; в ней появилось только какое-то покровительственное чувство к нему, родилась потребность его опекать, совсем как маленьких сестер и братьев.
Они остались наедине только вечером. Она готовила ужин, а Филип сидел на траве возле костра. Миссис Ательни ушла в деревню за покупками; дети побежали играть, Филип никак не решался заговорить. Он очень нервничал. Салли ловко хозяйничала с самым безмятежным видом, ее ничуть не смущало тяготившее его молчание. Он не знал, с чего начать. Салли редко разговаривала, разве что если к ней обращались или ей самой надо было сообщить что-нибудь особенное. Наконец Филип не выдержал.
— Салли, вы на меня не сердитесь? — выпалил он.
Она спокойно подняла глаза и поглядела на него.
— Я? Нет. А за что мне на вас сердиться?
Он опешил и не смог ничего ответить. Она сняла крышку с горшка, помешала его содержимое и снова накрыла крышкой. В воздухе вкусно запахло. Салли посмотрела на Филипа с чуть приметной улыбкой в уголках рта: улыбка была у нее больше в глазах.
— Вы мне всегда нравились,— сказала она.
Сердце у него вдруг бешено забилось, и кровь прилила к щекам. Он неестественно ухмыльнулся.
— Вот не знал...
— Потому что глупый.
— Не пойму, что вам во мне нравится.
— Да я и сама не пойму.— Она подбросила щепок в огонь.— А вот сразу почувствовала, что вы мне нравитесь, в тот день, когда вы пришли,— помните, вы ночевали на улице и вам нечего было есть? Мы еще с мамой приготовили вам постель Торпа...
Филип покраснел снова — он не знал, что этот случай ей известен. Сам он о нем вспоминал с ужасом и глубочайшим стыдом.
— Вот почему никто другой мне не был нужен. Помните того молодого человека — мама думала, что я за него выйду замуж? Я разрешила ему зайти к нам выпить чаю, потому что он так ко мне приставал, но я ведь заранее знала, что откажу ему.
Филип был так поражен, что просто онемел. У него было какое-то странное чувство, он не понимал, какое именно, но, может быть, это и было счастье. Салли снова помешала в горшке.
— Хоть бы дети поскорей пришли. Куда они девались? Ужин совсем готов.
— Сходить мне их поискать? — спросил Филип. Говорить о повседневных делах было большим облегчением.
— Пожалуй, сходите... Вот и мама идет.
И, когда он поднялся, она спросила без всякого смущения:
— Пойти мне сегодня с вами погулять, когда я уложу детей?
— Да.
— Тогда обождите меня возле мостков, я приду, когда освобожусь.
Он сидел на мостках под звездным небом и ждал ее; по бокам возвышалась живая изгородь с почти уже спелой черной смородиной на кустах. От земли поднимались дурманящие запахи ночи, а воздух был ласков и недвижим. Сердце его бешено билось. Он не мог понять, что с ним происходит. Страсть в его представлении была связана со стонами, слезами и одержимостью, но ничего подобного у Салли не было; и тем не менее что же, кроме страсти, могло заставить ее отдаться ему? Но можно ли питать к нему страсть? Его нисколько не удивило бы, если бы она увлеклась своим двоюродным братом Питером Гэнном — высоким, сухощавым, стройным парнем с загорелым лицом и смелой, уверенной походкой. Филип не понимал, что́ Салли могла в нем найти. Да он и не знал, любит ли она его так, как умел любить он. Но что же тогда? Он ведь был уверен в ее чистоте. У него было подозрение, что тут сыграло роль многое, чего она, может быть, и не сознавала,— хмельной воздух летней ночи, здоровый, естественный инстинкт женщины, нежность, переполнявшая сердце, привязанность, в которой было что-то материнское или сестринское; она отдала все, что имела, потому что душа ее была щедра и милосердна.
Он услышал шаги на дороге; из тьмы появилась ее фигура.
— Салли! — прошептал он.
Она остановилась, а потом подошла к мосткам и принесла с собой чистые, благоуханные запахи природы. Казалось, что от нее исходит аромат только что скошенного сена, душистого зрелого хмеля, свежесть молодой травы. Губы ее были такими мягкими, когда они прикоснулись к его губам, а сильное, красивое тело — упругим под его ладонями.
— Мед и молоко,— прошептал он.— Ты как мед и молоко.
Он закрыл ей своими губами глаза и целовал ее веки — сначала одно, а потом другое. Ее сильная, мускулистая рука была обнажена до локтя; он провел по ней пальцами, поражаясь ее красоте — она словно светилась; кожа была такая, какую любил писать Рубенс,— поразительно белая, прозрачная, а сверху золотился пушок. Это была рука саксонской богини, но у небожителей не бывает такой чарующей и такой земной естественности; Филипу она напоминала деревенский сад, где растут милые каждому сердцу цветы: мальвы, белые и красные розы, чернушки и турецкие гвоздики, жимолость, дельфиниумы и камнеломка.
— Как ты можешь меня любить? — спросил он.— Жалкого калеку, ничтожного урода...
Она взяла его лицо руками и поцеловала в губы.
— Ты ужасно глупый, вот ты кто,— сказала она.
Когда сбор хмеля кончился, Филип вместе со всеми Ательни вернулся в Лондон; в кармане у него лежало извещение о том, что он принят ординатором терапевтического отделения в больницу св. Луки. Он снял скромную квартиру в Вестминстере и в начале октября приступил к своим обязанностям. Работа была интересная и разнообразная, он каждый день узнавал что-то новое и чувствовал, что понемногу начинает приносить пользу; к тому же он часто виделся с Салли. Такая жизнь ему казалась необычайно приятной. К шести часам он уже был совершенно свободен — кроме тех дней, когда вел амбулаторный прием,— и отправлялся в мастерскую, где училась Салли, чтобы встретить ее после работы. Против «служебного входа» или чуть подальше, на углу, всегда дежурило несколько молодых людей, и девушки, выходившие из мастерской попарно или маленькими группами, подталкивали друг друга локтями и хихикали, узнавая своих ухажеров. Салли в гладком черном платье была совсем не похожа на ту деревенскую девчонку, которая собирала с ним хмель. Она быстро выходила из мастерской, но замедляла шаг, как только он ее нагонял, и улыбалась ему своей спокойной улыбкой. Они шли рядом по людной улице. Он рассказывал ей о своей работе в больнице, а она — о том, что делали сегодня в мастерской. Филип знал по именам девушек, с которыми она работала. Оказалось, что Салли обладает острым, хотя и сдержанным, чувством юмора: ее замечания по поводу товарок или их молодых людей были полны неожиданного комизма. У нее была способность подметить характерную деталь и рассказать о ней с самым серьезным видом, словно тут не было ничего смешного, но с такой убийственной точностью, что Филип покатывался со смеху. Тогда она поглядывала на него краешком глаза, который лучился от смеха — видно, она понимала комизм того, что рассказывает. Здоровались они за руку и прощались так же официально. Однажды Филип предложил ей зайти к нему выпить чаю, но она отказалась.
— Нет, не хочу. Это будет странно выглядеть.
Они никогда не заговаривали о любви. Ей, по-видимому, вполне хватало его общества во время этих прогулок. Однако Филип был убежден, что она рада с ним бывать. Она оставалась для него такой же загадкой, как и в начале их отношений. Ее поведение было ему непонятно, но, чем больше он ее знал, тем больше к ней привязывался: она была расторопна и сдержанна, в ней было какое-то удивительное прямодушие; чувствовалось, что можно на нее положиться во всем.
— Ты необыкновенно хороший человек,— сказал он как-то ей ни с того ни с сего.
— Да небось ничуть не лучше других,— ответила она.
Филип знал, что не любит ее. Он чувствовал к ней огромную симпатию; ему с ней было хорошо — удивительно, до чего ему с ней было покойно,— к тому же, как ни смешно это звучит, он питал уважение к этой девятнадцатилетней швейке. И его восхищало ее завидное здоровье. Она была великолепным образцом человеческой породы, без всякого изъяна, а физическое совершенство всегда вызывало у него благоговение. Он чувствовал себя недостойным ее.
Ознакомительная версия.