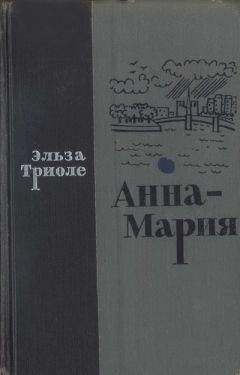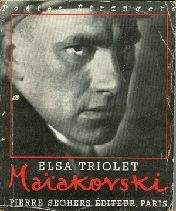Появилась Мартина — бледная, степенная женщина, одетая во все черное, под стать своему хозяину, с манерами прислуги из хорошего дома. Она бесшумно скользила по натертому, как в довоенные времена, паркету, отпирала и запирала навощенные дверцы буфета, мигом накрыла стол белоснежной скатертью, расставила приборы, тарелки с золотым ободком и тяжелые граненые бокалы. Майор развалился в кресле, перегородив маленькую комнату своими длинными ногами. Мартина обходила их, как непреодолимую преграду, а маленький аббат сновал по комнате и, воздевая руки к небу, легко перешагивал через это препятствие, не переставая тараторить. Смысл его слов почти не доходил до меня, я дремала, изо всех сил стараясь усидеть на стуле.
— Кушать подано! — торжественно объявила Мартина.
«Легкий ужин» состоял из гусиного паштета и прочих деликатесов. Но на десерт аббат, который пространно рассказывал о присланных в их район малолетних преступниках, его подопечных, вдруг огорошил нас вестью, что сегодня утром немцы (боши, как назвал их аббат) реквизировали замок мадам Дуайен. «Не знаю, зачем он им понадобился!» И он снова воздел руки к небу. Майор в растерянности машинально крошил кусок хлеба.
— Значит, придется уезжать? — спросила я.
— Вы мужественно приняли эту неприятную весть, мадам! Так оно и должно быть, я не смел надеяться на подобное самообладание со стороны женщины, да еще парижанки! — У аббата, видимо, отлегло от сердца. — В соседнем доме, — продолжал он, — сдаются комнаты. Я послал Мартину узнать, не приютят ли вас там на сегодняшнюю ночь. Вы хорошенько отдохнете, а завтра решите, что вам предпринять.
— Дождь пошел, — сказала Мартина, входя в комнату. — Хозяйки согласны сдать комнату… Господин майор может, как всегда, переночевать здесь, если только он не предпочтет тоже провести ночь у этих дам…
Мартина заинтересовала меня: направление ума у нее, служанки аббата, более подходит для горничной из светского дома.
Я пожала руку аббату и хмурому майору, который, казалось, нетерпеливо ждал моего ухода; провожая меня до калитки, аббат проклинал и немцев и дождь в выражениях, вряд ли заимствованных из Священного писания.
Сквозь мрак и дождь не было видно ни зги. Я споткнулась о ступеньку крыльца. Провожавшая меня Мартина несла мой чемодан, она открыла дверь: плохо освещенная прихожая, запах газа и капусты, зеркало, оленьи рога, подставка для зонтов, вешалка — все таяло в зловонной мгле… Деревянная лестница, устланная дорожкой, местами вытертой до дыр; дорожку поддерживали всего два-три металлических прута, точно ее нарочно положили, чтобы гость свернул себе шею! Мартина поднималась впереди меня, показывая дорогу. На первой площадке стояла женщина до того дряхлая, что это было заметно даже в полутьме; я разглядела на голове у нее парик, надетый в спешке несколько набекрень; видимо, Мартина пришла просить для меня приюта, когда старуха уже легла. Она была закутана в какой-то широкий черный балахон. Идя вслед за ней по лестнице, я сочла нужным извиниться, что ее подняли в такой поздний час. На следующей площадке она остановилась.
— Вы намерены снять комнату? — спросила старуха, взявшись за ручку двери.
— Конечно, мадам…
— Судя по тому, как вы извиняетесь… аббат Клеман вполне способен прислать постояльца, который и не подумает платить… Бывали уже такие случаи… Но раз вы собираетесь платить… Мы сдаем помещение за деньги! — Она открыла дверь.
Большая, заставленная мебелью комната, вот и все, что я успела разглядеть. Едва Мартина и старуха вышли, я быстро разделась и, не осмотревшись как следует, не умывшись, юркнула в большую, пропахшую плесенью кровать и тут же заснула.
Комнату я разглядела только утром. Лежа в тепле под одеялами, я обвела ее взглядом… Чем только она не была набита! Мне показалось, будто я попала в густую пыльную заросль; такие бывают по обочинам дорог. Если бы мне пришло в голову продолжать сравнение, я назвала бы ковер с его спутанной бахромой и загнутыми углами пыльной дорогой меж зарослей стульев, кресел, нескольких молитвенных скамеечек, этажерок и круглых столиков… От широкой кровати несло плесенью, большой шкаф без зеркала, стулья с высокими спинками — все было выдержано в готическом стиле улицы Сент-Антуан с неизбежной пылью, прочно залегшей в деревянной резьбе. На потолке — пятна сырости, на стенах — картинки религиозного содержания, распятия, фотографии; повсюду — безделушки с надписью: «На память о…», подушечки для булавок, вазочки, статуэтки — все это окончательно вытесняло из комнаты последние остатки воздуха и пространства.
Я поднялась с постели, накинула теплый халат: в комнате было холодно, сыро; к счастью, несмотря на годы, прожитые под тропиками, я не стала зябкой. Или, вернее, я очень зябкая, но привыкла мириться с неизбежным. Рядом с комнатой оказалась ванная, в буквальном смысле слова изъеденная сыростью. Облупленные стены, все в желтых потеках, такие же потеки в самой ванне. Горячей воды, конечно, и в помине нет. На полу, покрытом линолеумом, — круги от ведер и кувшинов с горячей водой. Оба окна комнаты, — кровать стояла в простенке между ними, — и окно ванной выходили в сад, весь в потоках дождя.
Конечно, будь все так, как предполагала мадам Дуайен, я устроилась бы значительно лучше. Но когда Мартина постучалась ко мне и от имени майора, который собирался уезжать, спросила, каково будет мое решение, я ответила, что остаюсь.
Мы договорились со старухами. Кроме той, с которой я уже познакомилась накануне, имелась еще одна, ее сестра, вдова, помоложе, но ничуть не лучше. Она приняла меня в гостиной на первом этаже; гостиная вся состояла из чехлов и холода. Я посулила им денег, и старухи обещали убрать несколько молитвенных скамеечек и кое-какие безделушки — о, конечно, о вкусах не спорят, просто в комнате негде повернуться. Младшая сестра сперва заупрямилась — это была когда-то ее супружеская спальня, — но, видно, сестры находились в стесненных обстоятельствах. Мне милостиво разрешили поставить в ванной электрические плитки — достать их можно в городе — и даже согласились продать печку и уголь. Все как будто устраивалось… Оставалось лишь ознакомиться с городом и его окрестностями, присмотреться к условиям жизни, несколько иным, чем в Париже. Я надела непромокаемый плащ, резиновые боты и отправилась на разведку.
Вот и крыльцо и гравий, скрипевший вчера под ногами. Вилла довольно большая, с оштукатуренными, грязно-бежевыми стенами и остроконечной крышей. Сад с прекрасными, оцепеневшими от холода деревьями, дорога… Ряд вилл, какие бывают повсюду, ничем не примечательные, точь-в-точь как та, в которой я поселилась. Вдалеке показался трамвай… это его шум я ночью приняла за вой ветра в трубе… Кругом ни души, дождь… Сестры объяснили мне, что, свернув направо, я попаду в город, налево — в замок мадам Дуайен… если мне хочется посмотреть на него, — разумеется, только издали: теперь туда ходить нельзя — у ворот стоят часовые…
Пассажиры трамвая держались с завидной непринужденностью. Я же чувствовала себя неловко, я еще не знала, до какой остановки брать билет и сколько платить… Все искоса поглядывали на меня, — видно, здесь знали в лицо каждого, кто ездит по этой линии. Сердце у меня сжалось при мысли, что скоро и я стану постоянным пассажиром, буду рассеянно говорить «до конца» или что-нибудь в этом роде… сжалось при мысли, что этому безумию не будет конца.
Четверть часа трамвай шел все прямо, мимо вилл, затем — поворот, и садов как не бывало, одни только неказистые дома и лавки… Потом пошли дома получше, сквер… И, наконец, совсем приятные места; я вышла из трамвая, чтобы немного пройтись, хотя моросил мелкий дождь.
Городок курортного типа. В центре, вокруг гостиниц — магазины: меха, белье, кожаные, ювелирные изделия… Сразу же за ними начались красивые виллы, нисколько не похожие на ту, в которой остановилась я, правда, довольно старомодные: сплошь увитые плющом стены, в садах сложенные из ноздреватых камней гроты, фонтан в середине, зеленые боскеты, белые статуи… На улицах нарядные женщины, фланеры в кремовых перчатках, разномастные упряжки, высокие кабриолеты на двух желтых колесах, ландо… На одном из широких проездов, между двумя рядами вилл, мне повстречалась беговая качалка на резиновых шинах, запряженная великолепным рысаком, какого можно увидеть только на бегах. Конечно, до войны франты и щеголихи в это время года сюда не приезжали, но теперь все смешалось: законы природы и привычки людей; я ничуть не удивлюсь, если встречу в деревне женщину, семенящую по навозной жиже на высоких тоненьких каблучках, или увижу где-нибудь в лесной чаще мужчину с портфелем под мышкой, словно он пришел сюда вершить государственные дела… В момент перемирия люди, как в замке Спящей красавицы, оцепенели в той самой позе, в какой их застало поражение.