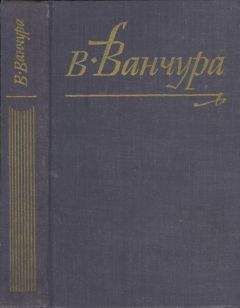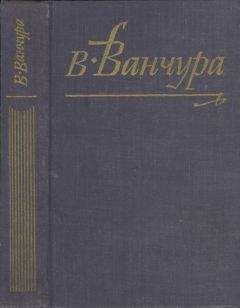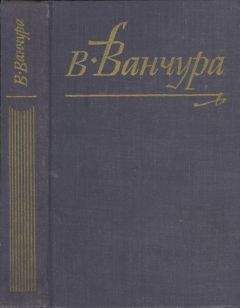«Итак, вернулся Ян с тремя гульденами и с пятилетним голодом. Ни работы, ни чулана для ночлега, а я слишком беден, чтоб помочь ему. Мы бедны», — думал Рудда, и гнев его не мог перешагнуть этого слова.
Рудда прошел по городу, спрашивая насчет свободных квартир, и только уже в полдень, на улице под названием Лужа, нашел жилье, показавшееся ему подходящим. Он засунул руку глубоко в карман просторных брюк и, уплатив за три месяца вперед, снял эту комнату для Маргоула. Две десятки, скопленные за много лет, все богатство, хранимое про черный день, на случай болезни или голодухи, — поминай как звали. Конечно, Рудда расстался с ними не без сожаления.
Ты неисправим, — сказал он Яну, — и, ей-богу, невыгодно быть таким упрямым дураком. Ну, скажи мне, что ты будешь делать, если мы в течение недели не найдем работы?
Найдем, — возразил Ян. — Найдем, и я отдам тебе долг.
Но при Йозефине Рудда был сдержаннее.
— Выбирайтесь из гостиницы, — сказал он ей, — да не мешкайте: вас ждет квартирка в сто раз уютнее надельготской развалюхи.
Йозефина связала узлы, их взвалили на тележку. Готово. Боско поднатужилась, тележка скрипнула. Не было больше дальней дороги под деревьями — был спотыкливый подъем на бугор посреди города, потом — спуск с него в улочку под названием Лужа, в дом с четырьмя окнами.
— Вот вы и дома, — сказал продавец содовой, и Маргоулы вошли.
Призма пустоты отозвалась болезненным вздохом.
— Мы дома, — повторил Ян. — Вот здесь поставим стол, здесь — кровать и шкаф; эта квартира лучше всех прежних.
Она далеко не такая, чтоб тебе быть довольным, — возразил Рудда. — Ты жил в собственном доме и, наверно, хочешь вернуться.
А мы еще вернемся, — бросил Ян, не понимая, что говорит.
Йозефина, развязывая узлы, сказала Рудде:
Когда мы уезжали в Надельготы, вы дали нам собаку — не возьмете ли ее обратно? А то не знаю, что нам делать с двумя.
Возьму, — ответил Рудда.
Но Ян, в ужасе от того, что придется расстаться с Боско, воскликнул:
— Господи, неужели мы уж такие нищие, чтоб отдавать собак! В городе довольно заработков, на всех хватит!
Обе собаки остались.
В четыре часа Маргоулы зажгли лампу и накрыли к ужину стол, взятый напрокат; надежда мало-помалу слабела.
На другой день Ян зашел за Руддой, чтобы тот помог ему отыскать работу где-нибудь в пекарне. Это намерение уже само по себе было безрассудным, но еще безрассудней то, что оба зашли только в корчму Котерака да к пекарю Панеку.
Довольно скорбный вид был у потрепанного продавца содовой перед дверью распивочной, но едва они вошли и неискушенный разум Яна открыл шлюзы смеха, Рудда забыл свои назидания.
— Слушай, — сказал Ян, поднимая бутылку. — Серебро испытывают в тигле, золото в печи, а мы возьмем Котерака на зуб, попробуем, к чему он пригоден. Ты не боишься? Твои неправые дела смердят Ветхим заветом! Ах ты, бородатый, лохматый старый ростовщик, кому ты нужен и кто тебя не проклинает?
Узкое лицо еврея, с носом, похожим на полураскрытый нож, склонилось над кассой. Он ничего не отвечает, он — как луна. Но тогда водка — ночь, и лунный серп плывет по этой ночи, чтобы косить гуляк. Вы ворвались как вихрь — рассеять тьму этого места, по ваши веселые клики поглотит ночь. Котерак не улыбается и не сердится. Пейте — его подвалы глубоки, и касса вместительна.
— Довольно, — сказал Рудда, — ведь мы хотим подыскать тебе работу. Или ты собрался торчать здесь до вечера?
Пекарь ответил:
— Я готов идти, но не могу, потому что ты веселей, чем обычно; давай же плавать и реять, как две соринки в полном стакане.
Еврей зажег лампу, длинные тени легли на пол и переломились, достигнув стены.
— Ладно. Время не ждет, налей нам обоим немного вина, Котерак, и все запиши за нами. Пошли.
Бенешовская улица подвинулась на два шага навстречу пьяным, дождь сияния обливал их, когда они проходили под фонарями, горбатая мостовая ложилась им под ноги.
Oй! Эй! В начале ночи трубит и гогочет великий безумец, дух опьянения, — голос его разносится по всей земле и слышен повсюду. Эй, настает ночь, веселье, забвенье попойки!
— Давай вернемся в корчму, — сказал Ян, прислушиваясь к своим голосам.
Торговец содовой согласился, по прямая улица заставила их идти прямо, и они но могли изменить направления. В конце же улицы, ведущей от корчмы Котерака, находилась пекарня Панека; они остановились у входа и, поскольку хозяин не показывался, вошли без приглашения, громко хлопнув дверью.
Эй, мастер! — крикнул Ян, когда толстяк в шлепанцах обернулся к ним от корыта с тестом. — Поздоровайся с нами, да не будь неуступчивым в сердце, твои уста молчаливы, ну а мы-то ведь пили вино! Го-го, пекарь, чего злишься? У меня тоже был колпак в муке и белая спина!
Уходите, уходите из моей пекарня! — ответпл Панек. — Катитесь вон, пьяницы!
Что? — промолвил Рудда, подступая к нему. — Коли я покачусь, то уж и тебя прихвачу. Разрази тебя гром, неужто ты такой гордый, что ответить не можешь? Я еще не забыл, как ты Маргоуловы денежки в карты просаживал!
Игра губит человека, — вставил Маргоул, — однако мы пришли не затем, чтобы подымать тебя на смех; я хотел попросить, мастер, не найдется ли в твоей пекарне для меня работы?
То, что я слышал, непохоже на просьбу, — буркнул хозяин.
Совершенно верно, — заметил Рудда, — ты правильно понял.
Тем не менее гнев обоих начал сникать, и они быстро подвигались к согласию.
А зачем вы ломаете двери в пекарнях? Коли пьяны, почему дома но сидите? Кабы я вас не знал, что же бы мне оставалось делать, как не указать вам на дверь?
Сам, что ли, никогда не напивался? — возразили они. — Не случалось разве тебе по воскресным дням ужо к девяти часам валяться у Котерака на столе, наклюкавшись вдрызг?
Ладно, чего зря болтать, — сказал Панек. — Коли ты, Ян, и впрямь у меня работать хочешь, то я рассчитаю своего подмастерья. Да или нет?
— Об этом я тебя и просил, — ответил Ян.
Богатый творит неправду, да еще задирает нос; бедный сносит обиду молча, но Рудда — отнюдь не смиренный бедняк, а Маргоул был слишком разгорячен вином. И все-таки, отвечай они Панеку иначе, не так, как они отвечали, Ян Маргоул остался бы без работы. Тут Яна выручило опьянение. Один из двух подмастерьев Панека получит расчет, и это Ян отнимет у него работу. Огонь не погасишь огнем, а кривду кривдой, и Ян Маргоул, став такой ценой подручным пекаря, не больно радовался.
Улица Лужа дырява с обоих концов и петляет от дома к дому; в начале ее валяется куча строительного мусора, в конце — водовозная повозка с разбитой бочкой. Узкая, глубокая, кривая, разъезженная дорога, где колеса вязнут по ступицу, была бы не страшной, если б вела к виселице скоробогачей; ее условный ужас определен ее репутацией в городе. Коллегия братьев школьного ордена и величественный дом барышника торчат на обоих концах этой улицы болезней и страхов, словно подъятый перст божий и длань жандарма. А в пределах этой части города то тут, то там на разные голоса выкликает горе да громогласно заявляет о себе мечта, когда бедняки толкуют о Страшном суде; за вычетом этого, только похабные слова да непристойные рисунки кричат с дощатых заборов. О городские девушки, закройте лица, если уж никак нельзя вам миновать сей Лужи!
Иной раз городскому голове приходится скакать через знаменитую водовозную бочку и через все ухабы страшной улицы; тогда он, держась водосточных труб, старается скорее проскользнуть, стиснутый приступом гуманности. Как жаль, что средства городской управы так скудны! Зато Яну Йозефу по душе пришлась нищенская окраина Бенешова, через три месяца он уже выкрикивал все городские гадости и был принят в уличную шайку. В галдеже быстро прошло лето, и отец подарил Яну Йозефу латинскую грамматику. Мальчику предстоял вступительный экзамен в первый класс гимназии.
— Он принят, — сообщил Ян, показывая Йозефине отметки преподавателя.
Йозефина сказала:
— Учение не каждому впрок, но я все-таки рада, что ты займешься делом, Ян Йозеф, а то ведь до сих пор ты являлся домой только есть да спать.
В латинском учебнике для первого класса есть сильные слова — на них покоится весь восьмилетний курс.
Amo, aмas, amare! [2] — спрягает Ян Йозеф, и лохматый учитель, который вечно мечется меж парт, хоть и не знает ничего о делах любви, одобряет этот глагол.
Теперь я учитель родного языка, — заявляет лохмач, переменив обличье после звонка, и принимается месить другой учебник: — Ах — стихийное выражение разных эмоций, в особенности боли, радости, удивления, сожаления. Ах, горе! Употребляется с падежами: именительным — ах, бедный я человек; родительным — ах, горя моего тебе не понять; дательным — ах, мне грустно; звательным — ах, дочь моя! Ах, роза!