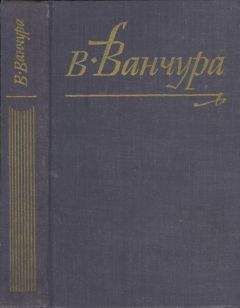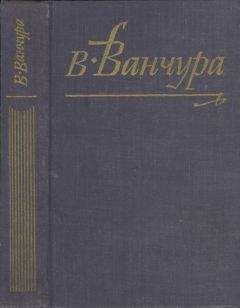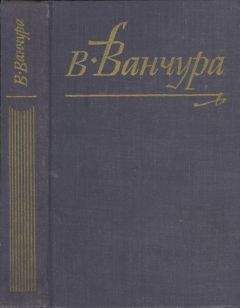Ян Йозеф замирает, увидя, как пламенеет дух святой на языке учителя. Еще вчера ему было бы стыдно, но сегодня, вернувшись из школы на свою улицу, он выведет как можно красивее на заборе сада: «Ах, роза!»
В первом классе бенешовской гимназии преподавали семь учителей, и самым свирепым был учитель географии. Он вечно закусывал удила, этот злобный бес, недовольный ничем, хоть кол на голове теши! Вон он, щетинистый кабан, так и ерзает на стуле, скрестив ноги, и лоснится от сала! Это учитель Брунцулик, ни рыба ни мясо, просто брюхо, которому, увы, дана власть отвешивать тебе затрещины и драть на тебя свою хамскую глотку. Таков он, а вот его приятель, развратный законоучитель поп Коварж, герцогская шлюха. Они изобьют тебя не хуже палачей, эти хрюкающие боровы, берегись, Ян Йозеф! Пани Маргоулова знала о свинствах, которые поп творил с огородницей, знала и о диких выходках Брунцулика.
Боюсь я отдать сына им на произвол, — сказала она, по Ян возразил:
Что может с ним случиться в коллегии школьных братьев? Конечно, ничего дурного!
И Ян Йозеф остался в гимназии. Первый класс он окончил, и во втором его годичный табель был удовлетворителен, но уже в третьем классе он заработал два кола. Ян Йозеф был неглуп, но на уроках сидел безучастно. Он грезил. Светило солнце, а он, глядя на школьный двор, полный сияния, часами думал о полярных странах. А то мечтал он о далекой весне, о реках, описанных в книгах, о богатстве и волшебном перстне. Он стал бояться своего имени, потому что всякий раз, как кто-нибудь из учителей вызывал его, на голову его обрушивался ливень порицаний. Он мог знать все — и не знал ничего. Такое раздвоение сознания превратило его в бездельника и труса.
Маргоул — последний олух в классе. Целый день думал он об этом обозначении и лгал, разговаривая с матерью. Ко древу познания он привил бунт; и вот — справедливо заклейменный двоечник и справедливо обруганный мечтатель были одно и то же лицо. На четвертый год мечты Яна Йозефа стали обретать форму, и паренек постепенно стряхивал с себя позор. Книги, которые он понимал лишь наполовину, несли его, как вороны несли Снегурочкин гроб. Ян Йозеф парил на весеннем ветру, устремляясь по всем направлениям. Глубоко под ним лежал Бенешов с гимназией и терпеливым святым Флорианом, вечно льющим воду из своего кувшина в городскую лужу. Нужно было случиться многим происшествиям, глупым ошибкам и шашням с девчонками, чтобы Ян Йозеф познал два начала, скрестившиеся в его душе, как древо креста с его перекладиной: мечту, возносящуюся от центра земли к зениту, и плоскость повседневности. Подросток держал голову все еще слишком прямо, и учителям предстояло много поработать, чтоб заставить ее склониться. Ян Йозеф растерянно стоял у доски, ничего не зная о каком-то выступе государственной границы, не существующем нигде, кроме как в тупых головах таможенных чиновников. Брунцулик ревел ругательства, и в конце концов поднял на него руку, сжав в кулак свою вонючую, потную ладонь. Время раскололось надвое, и в середине пустоты стоял Ян Йозеф. На лицах класса зазмеилось какое-то подобие ухмылки, а побитый ответил полным скрытой ярости смирением.
Под этими ударами Ян Йозеф сделался тихим, но осмотрительным негодяем, и потребовалось немало трудов и дел, чтобы он стряхнул с себя темную тень, наброшенную гимназией.
Ян очень легко прощал сыну неудовлетворительные отметки, но ужасался при виде того, как ухудшается его поведение.
— Ты спускаешься со ступеньки на ступеньку, как монастырский пономарь с колокольни. И что ты, черт тебя побери, вытворяешь перед учителями? Я уверен, ты просто дурак, но эта отметка — последняя; больше я таких не потерплю — смотри, выпорю.
Ян Йозеф слушал с мрачной рассеянностью. Бейте все, у кого руки есть!
Рядом с кудрявой овечьей добродетелью первоклассников в гимназии расцветает довольно колючее озорство; более того, класс почитает его геройством.
Если гимназист из числа отъявленных потеряет глаз в кабацкой драке, если он щегольнет скотским распутством, если его привлекут к суду за шулерство и прочно смертные грехи, он вступит на вершину славы, ибо все, что нарушает гимназическую мораль, расценивается как подвиг. Ян Йозеф блистал этим сомнительным блеском по довольно ничтожным причинам, но репутация обязывала его время от времени действовать. Он преследовал глупенькую востроносую девчушку и, не ведая других обязанностей, без конца дарил ей цветы, пока такая его недогадливость не стала ей в тягость. Он заходил в трактир, чтоб высосать кружку пива, в то время как настоящие пьяницы пили в другом месте, и все-таки город указывал устрашенным перстом именно в тот вертеп, где был он. Слава Герострата была горька, и Яну Йозефу трудно было таскать собственное величие.
Старый Маргоул, проходя через весь город на работу, мог бы услышать кое-что о своем сыне, по он не слушал. Как-то раз посетителями Котераковой корчмы вдруг овладело братское чувство пьяниц, и они заговорили о своих детях; между прочим принялись хвалить Яна Йозефа:
— Какой бы он там ни был, зато не трусит, как трусил бы на его месте ты.
Он больше в мать, чем в меня, — ответил пекарь, принимая неправду за чистую монету.
Надо сказать, что одобрение было отнюдь не бурным, по и его вполне хватало, чтоб почти окончательно испортить Яна Йозефа. Его называли львом, а он был львом меньше, чем Боско.
Между тем пекарь Ян старел под переменчивым небом своей нищеты. Расходы на сына росли с каждым днем, и пекарь, вечно возбужденный без всяких вин и водок, находил удовлетворение в этой гонке. Фанатичность нужды нарастала подобно тому, как мороз крепчает к декабрю. Расплылись последние очертанья надежды, и Йозефина стояла над порогом рая или ада, а Ян Йозеф был как потух, дерущий глотку над этим зияющим сооружением. Пустынная, безлюдная дорога стольких лет подымалась и опускалась, как качели. И Ян мог быть каким угодно, белым или черным, богатым или бедным, — все различия стирал дух неистовой, неукротимой простоты.
Ночь была еще наполнена тьмой, заря едва коснулась края света. Ян отставил лопату и вышел на улицу, — шпиль костела выплывал из моря мглы, подобный мачте приближающегося корабля. Бенешов был тих, он еще храпел под плесенью перин, а поток дня уже набирал силу. Призрак огромной толпы летел над садами. «Я здесь, я здесь», — шептал Ян, готовый поднять знамя своего поражения. Но бесплотное войско промчалось дальше, дальше, и Ян остался, как разверстый Бланик[3], из которого вышли все рыцари.
Ян вернулся в пекарню; работа окончилась вместе с ночью, оставалось только вынуть хлеб. Когда это было сделано, пробило шесть, и пекарь Панек проснулся. Между ними обоими давно уж не было никакой дружбы. Па-пек разжился, и ему не хотелось быть на одной ноге с рабочим, который был когда-то его товарищем.
Готово? — спросил хозяин, шаркая огромными шлепанцами, чьи задники торчали наподобие шпор.
Готово, — ответил Ян, отсчитывая по два хлеба — всего было шестьдесят пар.
Окончив счет, он постоял еще немного, потом сказал:
Тяга в печи неважная.
Ничуть не бывало, — возразил хозяин. — Наверное, вы забили сажей, засорили дымоход. Печь хорошая, а только тому, кто возле нее работает, надо знать свое дело.
Он взял палку с обугленным концом и потер ею песчаник, которым было выложено чело печи; посыпались искры.
— Опять перегрели, — сказал Панек, сходя с того места перед печью, где пол осел. — Видно, ты не бережешь дрова, Ян.
Рабочий молчал. Он мог возразить, что знает толк в этом деле, так как сам сложил отличную печь в Надельготах. Ее стенки и свод были толще, чтоб медленнее остывала; но Панек считал именно это преимущество недостатком.
Знаешь, Маргоул, — сказал он, — я не хочу кончить тем, чем ты кончил, не так я понимаю свое хозяйство и работу. Я хочу оставить пекарню сыну, потому как нет у меня бешеных денег, чтобы ждать пятнадцать лет, пока он будет учиться, как твой Ян Йозеф.
Разве я богаче вас? — спросил Ян.
Может быть, — ответил хозяин, — но наверняка у тебя достаточно денег, чтоб положить под высокий процент на долгий срок — пока твой сын не станет деканом.
Что ни говори, а было б хуже, кабы моему сыну уже теперь пришлось бы помогать мне у печи.
Панек с жаркой неприязнью посмотрел на своего рабочего, который явно не разделял его взглядов на жизнь.
— Э, — сказал он, предоставляя иронии соскользнуть к остроконечным туфлям, — я бы на твоем месте отругал мальчишку: вчера в трактире «У почты» учитель Брунцулик рассказывал, что парень дерзит и огрызается, а учится ведь хуже всех. Почему ты не обучишь его пекарскому делу, Маргоул? Или наше ремесло, по-твоему, не хорошо?
Засовывая в сумку свой хлебный паек, Ян ответил, словно отрезая добрый ломоть Яну Йозефу: