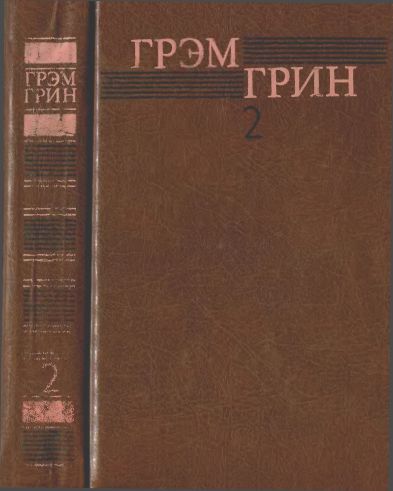и тут я совсем проснулся в пустом доме, в пустом мире. Я пошел наверх, к Генри. Он спал тяжелым, неестественным сном, улыбаясь, как пес, и я ему позавидовал. Потом я вернулся и попробовал съесть тосты.
Зазвонил звонок, служанка повела кого-то наверх — человека из бюро, наверное, ведь они пошли в комнату для гостей. Он видит Сару, я — нет, но я и не хотел, это все равно что увидеть ее с другим. Некоторых это возбуждает, только не меня. Я собрался с силами и стал думать: «Теперь все и впрямь кончено, надо начинать сначала. Когда-то я влюбился, надо влюбиться опять». Ничего не вышло, словно я стал бесполым.
Опять позвонили. Сколько в доме дел, пока Генри спит! На сей раз Мод зашла ко мне. Она сказала:
— Там человек спрашивает мистера Майлза, а я не хочу его будить.
— Кто именно?
— Этот приятель миссис Майлз, — так выдала она, что принимала участие в наших жалких кознях.
— Ведите его сюда, — сказал я. Я чувствовал, насколько я выше Смитта здесь, в ее гостиной, в пижаме Генри. Я столько знаю о нем, он обо мне не знает. Он смущенно глядел на меня, стряхивая снег. Я сказал:
— Мы как-то встречались. Я друг миссис Майлз.
— С вами был мальчик.
— Да, был.
— Я хочу повидать мистера Майлза, — сказал он.
— Вы уже слышали?
— Потому я и пришел.
— Он спит. Врач дал ему таблетки. Это большой удар для нас, — глупо прибавил я.
Смитт оглядывался. На Седар-роуд Сара приходила ниоткуда, у нее не было измерений, как во сне. Здесь она уплотнилась. Комната — это тоже Сара. Снег медленно стекал на порог, словно земля с лопаты. Комнату хоронили, как Сару.
Он сказал:
— Я еще приду, — и уныло повернулся той щекой ко мне. Я подумал: «Вот что тронули ее губы». Ее всегда было легко разжалобить.
Он глупо повторил:
— Я пришел повидать мистера Майлза. Выразить…
— В таких случаях пишут.
— Я думал, я могу помочь, — тихо сказал он.
— Мистера Майлза обращать не надо.
— Обращать?
— Убеждать, что от нее ничего не осталось. Что это конец. Совершеннейший.
Вдруг он сорвался:
— Я хочу ее видеть, вот и все.
— Мистер Майлз ничего о вас не знает. Зря вы пришли сюда, Смитт.
— Когда похороны?
— Завтра, на Голдерз-Грин.
— Она была бы против, — неожиданно сказал он.
— Она ни во что не верила, — сказал я.
Он сказал:
— Разве вы оба не знаете? Она хотела стать католичкой.
— Чепуха какая.
— Она мне писала. Она решила твердо. Я не мог ее убедить. Она проходила… катехизацию. Так у них говорят?
«Значит, у нее и сейчас есть тайны, — подумал я. — Об этом она не писала, как и о болезни. Что же еще предстоит узнать?» Мысль эта была как отчаяние.
— Вы очень огорчились, да? — спросил я, пытаясь перенести на него свою боль.
— Конечно, я рассердился. Но ведь нельзя всем верить в одно и то же.
— Раньше вы не так говорили.
Он посмотрел на меня, словно удивился, что я так злюсь. Он сказал:
— Вас зовут не Морис?
— Именно так.
— Она мне про вас говорила.
— А я про вас читал. Она нас обоих оставила в дураках.
— Я себя глупо вел, — сказал он. — Как вы думаете, смогу я ее увидеть?
И я услышал тяжелые шаги человека из бюро. Скрипнула та самая ступенька.
— Она лежит наверху. Первая дверь слева.
— А мистер Майлз…
— Его вы не разбудите.
Когда он пришел опять, я уже оделся. Он сказал:
— Благодарю вас.
— Не благодарите, — ответил я. — Она не моя, как и не ваша.
— Я не вправе просить, — сказал он, — но я бы хотел… Вы ведь любили ее. — И он прибавил, словно проглотил горькую пилюлю: — Она вас любила.
— Что вы пытаетесь сказать?
— Я бы хотел, чтобы вы для нее…
— Для нее?
— Пусть ее похоронят по-церковному. Она бы об этом просила.
— Какая теперь разница?
— Никакой, наверное. Но всегда лучше быть добрым.
«Ну, это уж слишком! — подумал я. — Чепуха какая», — и мне захотелось расшевелить похороненную комнату смехом. Я сел на тахту и стал просто трястись. Наверху — мертвая Сара, спящий Генри, а поклонник с пятнами и любовник, нанявший сыщика, обсуждают похороны. Паркис из-за меня пудрил у него звонок! Слезы текли по щекам, так я смеялся. Однажды я видел человека, который смеялся у развалин дома, где погибли его жена и дети.
— Не понимаю, — сказал Смитт. Он сжал правый кулак, словно решил защищаться. Мы столько всего не понимали… Боль, будто взрыв, бросила нас друг к другу.
— Я пойду, — сказал он и нащупал левой рукой ручку двери. Я не думал, что он левша, и странная мысль меня посетила.
— Простите, — сказал я. — Я не в себе. Мы все не в себе, — и протянул ему руку. Он не сразу тронул ее левой рукой.
— Смитт, — сказал я, — что вы там взяли? Вы ведь что-то взяли у нее?
Он разжал ладонь, я увидел прядь волос.
— Вот, — сказал он.
— Какое вы имели право?
— Теперь она никому не принадлежит, — сказал он, и вдруг я увидел, чтó она теперь — падаль, которую надо убрать. Хочется взять волосы — берите, или обрезки ногтей, если вам нужно. Можно делить ее мощи, как со святыми. Скоро ее сожгут, почему ж не расхватать, что требуется? Нет, какой я дурак, три года думал, что она — моя! Мы не принадлежим никому, даже самим себе.
— Простите, — сказал я.
— Вы знаете, что она мне написала? — спросил он. — Только четыре дня назад, — и я горько подумал, что у нее было время писать ему, но не было, чтобы звонить мне. — Она написала: «Молитесь обо мне». Странно, правда, — чтобы я молился за нее?
— Что же вы сделали?
— Когда я услышал, что она умерла, я помолился.
— Вы знаете молитвы?
— Нет.
— Хорошо ли молиться тому, в кого не веришь?
Я вышел вместе с ним — незачем было ждать, пока Генри проснется. Рано или поздно он поймет, что он совсем один, как понял я. Глядя, как Смитт идет впереди, я думал: «Истерик. Неверие может быть истерическим, как вера». Ботинки у меня промокли в растоптанном снегу, и я вспомнил ту росу из сна, но когда я захотел вспомнить голос, говоривший: «Не страдай», я не смог, я не помню звуков. Я бы не мог и передразнить ее — пытаюсь припомнить, а слышу просто голос, никакой, ничей, разве что женский. Вот начал ее забывать. Надо хранить пластинки, как мы храним фотографии.
Я поднялся в холл по разбитым ступенькам. Все