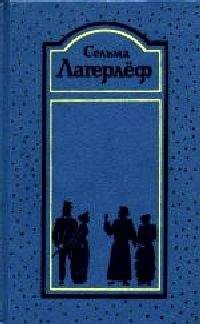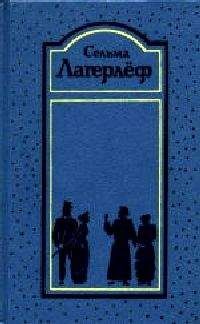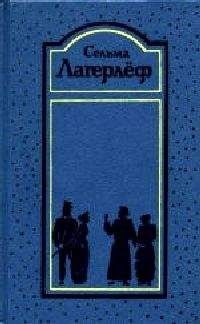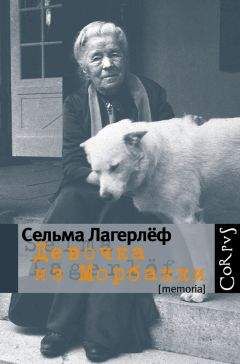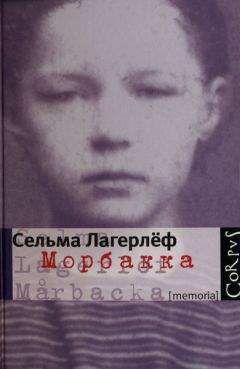И такое письмо она намеревалась отослать его матери. Она, которая любит его!
Право же, она, должно быть, вовсе лишилась рассудка. Неужто она способна причинить своей обожаемой свекрови столько горя? Или она забыла о снисходительности, которую полковница всегда выказывала ей, начиная с самой первой их встречи? Или она забыла всю ее доброту?
Шарлотта разорвала это пространное письмо пополам и села писать новое. Она примет вину на себя. Она выгородит Карла-Артура.
И она поступит всего лишь так, как должно. Карл-Артур рожден для великих дел, и ей следует радоваться тому, что она ограждает его от всякого зла.
Он отказался от нее, но она любит его по-прежнему и готова, как прежде, оберегать его и помогать ему во всем.
Она принялась за новое письмо.
«Умоляю мою досточтимую свекровь не думать обо мне слишком дурно…»
Но тут она запнулась. Что ей писать дальше? Лгать она никогда не умела, а смягчить горькую правду было нелегко.
Пока она раздумывала, что ей написать, прозвонили к завтраку. Времени на раздумья больше не было.
Тогда Шарлотта просто поставила свою подпись под этой единственной строчкой, сложила письмо и запечатала его. Она спустилась вниз, положила письмо в почтовый ящик и направилась в столовую.
Тут же она подумала, что ей больше незачем доискиваться, кто эта особа. Если она хочет, чтобы полковница поверила ей, если она и впрямь готова принять вину на себя, ей не следует подвергать каре никого другого.
I
Завтрак в пасторском доме, за которым обычно ели свежие яйца и хлеб с маслом, молочный суп с аппетитными пенками и запивали все это глоточком кофе с восхитительными сдобными крендельками, вкуснее которых не нашлось бы во всем приходе, обычно проходил гораздо веселее, чем обед и ужин. Старики пастор и пасторша, только что вставшие с постели, были радостны, как семнадцатилетние. Ночной отдых освежал их, и старческой усталости, которая давала себя знать к концу дня, точно и не бывало. Они обменивались шутками с молодежью и друг с другом.
Но, разумеется, в это утро о шутках не могло быть и речи. Молодежь была в немилости. Шарлотта крайне огорчила вчера стариков своим ответом Шагерстрёму, а молодой пастор обидел их тем, что не явился ни к обеду, ни к ужину, не предупредив их об этом заранее.
Когда Шарлотта вбежала в столовую, все остальные уже сидели за столом. Она хотела было занять свое место, но ее остановило строгое восклицание пасторши:
— И ты собираешься сесть за стол с такими руками?
Шарлотта взглянула на свои пальцы, которые и впрямь были донельзя измараны чернилами после усердного писания.
— Ах, и впрямь! — смеясь, воскликнула она. — Вы, тетушка, совершенно правы. Простите! Простите!
Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чистыми руками, не выказав ни малейшего недовольства выговором, который к тому же был сделан в присутствии жениха.
Пасторша посмотрела на нее с легким удивлением.
«Что это с ней? — подумала старушка. — То она шипит, как уж, то воркует, как голубка. Поди разбери эту нынешнюю молодежь!»
Карл-Артур поспешил принести извинения за свое вчерашнее отсутствие. Он вчера вышел прогуляться, но во время прогулки почувствовал усталость и лег отдохнуть на лесном пригорке. Незаметно для себя он уснул и, пробудившись, обнаружил, к величайшему своему удивлению, что проспал и обед и ужин.
Пасторша, обрадованная тем, что Карл-Артур догадался объяснить свое отсутствие, благосклонно заметила:
— Незачем было стесняться, Карл-Артур. Уж во всяком случае, кое-что можно было бы собрать тебе доесть, хотя сами мы и отужинали.
— Вы слишком добры, тетушка Регина.
— Ну что ж, теперь тебе придется есть за двоих, чтобы наверстать упущенное.
— Должен вам заметить, добрейшая тетушка, что я вовсе не страдал от голода. По дороге я зашел к органисту, и фру Сундлер дала мне поужинать.
Чуть слышное восклицание раздалось с того места, где сидела Шарлотта. Карл-Артур бросил на нее быстрый взгляд и по уши залился краской. Ему не следовало упоминать имени фру Сундлер. Сейчас Шарлотта, должно быть, вскочит, закричит, что теперь она знает, кто оклеветал ее, и поднимет страшный скандал.
Но Шарлотта не шевельнулась. Лицо ее оставалось безмятежно спокойным. Если бы Карл-Артур не знал, сколько коварства таится за этим ясным белым челом, он сказал бы, что вся она лучилась каким-то внутренним светом.
Между тем не было ничего удивительного в том, что Шарлотта изумляла своих сотрапезников. С ней и впрямь происходило что-то необычное.
Впрочем, едва ли следует называть ее состояние необычным. Многие из нас, должно быть, переживают нечто подобное, когда нам после долгих и тщетных усилий удается наконец выполнить тяжкий долг или добровольно обречь себя на лишения. Более чем вероятно, что мы в это время пребываем в глубочайшем унынии. Ни воодушевление, ни даже сознание того, что мы поступили разумно и справедливо, не приходят к нам на помощь. Мы убеждены, что наше самопожертвование принесет нам лишь новые беды и страдания. Но вдруг, совершенно неожиданно, мы чувствуем, как сердце в нас радостно встрепенулось, как оно забилось легко и свободно, и полное удовлетворение охватывает все наше существо. Словно каким-то чудом поднимаемся мы над нашим будничным, повседневным «я», ощущаем полнейшее равнодушие ко всем неприятностям; более того — мы убеждены, что с этой минуты пойдем по жизни невозмутимо и ничто не в силах будет изгнать из нашей души ту тихую, торжественную радость, которая переполняет нас.
Вот что примерно произошло с Шарлоттой, когда она сидела за завтраком. Горе, гнев, жажда мести, уязвленная гордость, поруганная любовь — все это отступило перед великим восторгом, охватившим ее при мысли о том, что она жертвует собою для любимого.
В эти минуты в душе ее не оставалось места ни для каких других чувств, кроме нежного умиления и сострадательного сочувствия. Все люди казались ей достойными восхищения. Любовь к ним переполняла ее до краев.
Она смотрела на пастора Форсиуса, сухонького старичка с плешивой макушкой, гладко выбритым подбородком, высоким лбом и вострыми глазками. Он походил скорее на университетского профессора, нежели на священника, и он действительно в молодости готовил себя к ученой карьере. Он родился в восемнадцатом веке, когда еще гремела слава Линнея; он посвятил себя изучению естественных наук и был уже профессором ботаники в Лунде, когда его пригласили занять место пастора в Корсчюрке.
В этой общине уже в течение многих поколений пасторами были священнослужители из фамилии Форсиус. Должность эта переходила от отца к сыну как фидеикомис,[23] и поскольку профессор ботаники Петрус Форсиус был последним в роде, то его настоятельно просили и даже принуждали принять на себя заботу о душах, а цветы предоставить их собственной участи.
Все это было известно Шарлотте уже давно, но никогда прежде не понимала она, какой жертвой должен был быть для старика отказ от любимых занятий. Из него, разумеется, вышел превосходный пастор. В жилах его текла кровь столь многих достойных священнослужителей, что он отправлял свою должность с прирожденным умением. Но по многим едва заметным признакам Шарлотте казалось, что он все еще скорбит о том, что не смог остаться на своем месте и всецело отдаться своему истинному призванию. После того как у него появился помощник, семидесятипятилетний старик снова вернулся к любимой ботанике. Он собирал растения, наклеивал их, приводил в порядок свой гербарий. Он, однако, не забросил и дела в общине. Усерднее всего он пекся о том, чтобы в общине царил мир, чтобы никакие распри не нарушали спокойствия и не ожесточали умов. Он стремился немедля устранить любую причину несогласия. Оттого-то и огорчился он репримандом, который вчера получил от Шарлотты Шагерстрём. Но вчера Шарлотта была иной. Тогда она сочла старика не в меру осторожным и трусливым. Сегодня же она видела все в ином свете.
А пасторша…
Шарлотта перевела свой взгляд на старую хозяйку дома. Пасторша была рослой, жилистой и внешность имела совершенно непривлекательную. Волосы, в которых все еще не проглядывала седина, хотя пасторша была почти одних лет с мужем, она расчесывала на прямой пробор, опускала на уши и прятала под черным тюлевым чепцом, скрывавшим добрую половину лица. Шарлотта подозревала, что делалось это не без умысла, ибо хвастать пасторше было нечем. Старушка, наверно, думала, что довольно и того, что людям приходится лицезреть ее глаза, напоминающие две круглых перчинки, курносый нос с вывернутыми ноздрями, брови, походившие на два жалких пучка, широкий рот и острые, выпирающие скулы.
Вид у нее был весьма суровый, но если она и впрямь обходилась строго со своими домочадцами, то всего безжалостнее была она к самой себе. В приходе говаривали, что телу пасторши Форсиус приходится нелегко. Она отнюдь не удовлетворялась просто сидением на диване с вышивкой или вязаньем. Нет, ей требовалась по-настоящему тяжелая работа; тогда лишь она бывала довольна. За всю ее жизнь никто ни разу не заставал ее за столь бесполезными занятиями, как, скажем, чтение романов или бренчание на фортепьяно. Шарлотта, которая подчас находила рвение пасторши излишним, в это утро безмерно восхищалась ею. Разве это не прекрасно — никогда не щадить себя и быть неутомимой труженицей вплоть до глубокой старости? Разве это не прекрасно — без устали наводить в доме чистоту и порядок и не желать от жизни ничего иного, кроме возможности трудиться?