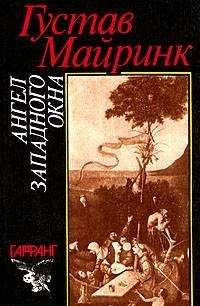Две ночи и один день длился «тайгерм», я перестал, разучился ощущать ход времени; вокруг, насколько хватал глаз, — выжженная пустошь, даже вереск не выдержал такого кошмара — почернел и поник. Но уже в первую ночь стали прорезаться во мне сокровенные органы чувств; я начал различать в инфернальном хоре голос каждой кошки. Струны моей души подобно эху откликались на «свой» голос, пока одна за другой не лопнули. Тогда мой слух раскрылся для бездны, для музыки сфер; с тех пор я знаю, что значит «слышать»… Можешь не зажимать ушей, брат Ди, так ты всё равно не услышишь музыку сфер, а с кошками покончено. Им сейчас хорошо, должно быть, играют на небесах в «кошки-мышки» с душами праведников.
Огонь потух, высоко в небе стояла полная Луна. Колени мои подгибались, я шатался, как «тростник, ветром колеблемый». Неужели землетрясение, подумал я, так как Луна стала вдруг раскачиваться подобно маятнику, пока мрак не поглотил её. Тут только я понял, что ослеп и мой левый глаз — далёкие леса и горы куда-то пропали, меня окружала кромешная безмолвная тьма. Не знаю, как это получилось, но мой «белый глаз» внезапно прозрел, и я увидел странный мир: в воздухе кружились синие, неведомой породы птицы с бородатыми человеческими лицами, звезды на длинных паучьих лапках семенили по небу, куда-то шествовали каменные деревья, рыбы разговаривали между собой на языке глухонемых, жестикулируя неизвестно откуда взявшимися руками… Там было ещё много чего диковинного, впервые в жизни сердце моё томительно сжалось: меня не оставляло чувство чего-то давно знакомого, уже виденного, как будто я там стоял с самого сотворения мира и просто забыл. Для меня больше не существовало «до» и «после», время словно соскользнуло куда-то в сторону…
…(Следы огня.)… чёрный дым… на самом горизонте… какой-то плоский, словно нарисованный… Чем выше он поднимался, тем становился шире, пока не превратился в огромный чёрный треугольник, обращенный вершиной к земле. Потом он треснул, огненно-красная рана зияла сверху донизу, а в ней с бешеной скоростью вращалось какое-то чудовищное веретено… (Следы огня.)… наконец я увидел Исаис, Чёрную Матерь; тысячерукая, она сучила на своей гигантской прялке человеческую плоть… кровь струилась из раны на землю, алые брызги летели в разные стороны… попадали и на меня, теперь я стоял, краплёный зловещей экземой красной чумы, видимо, это и было тайное крещение кровью…
(Следы огня)…
…на оклик Великой Матери та, что спала во мне подобно зерну, проснулась, и я, слившись с нею, дочерью Исаис, в единое двуполое существо, пророс в жизнь вечную. Похоти я не ведал и раньше, но отныне моя душа стала для неё неуязвимой. Да и каким образом зло могло бы проникнуть в того, кто уже обрел свою женскую половину и носит её в себе! Потом, когда мой человеческий глаз снова прозрел, я увидел руку, которая из глубины колодца протягивала какой-то предмет, мерцающий подобно тусклому серебру; но, как я ни старался, мои земные руки никак не могли его ухватить, тогда дочь Исаис, высунув из меня свою цепкую кошачью лапку, взяла его и передала мне… «Серебряный башмачок», который отводит страх от того, кто его носит…
…и прибился к бродячим жонглёрам, выдавая себя за канатоходца и дрессировщика. Ягуары, леопарды и пантеры в диком ужасе, шипя и фыркая, разбегались по углам, стоило мне только глянуть на них «белым глазом»… (Следы огня.)…
…и хотя никогда не учился, но, неподвластный благодаря «серебряному башмачку» страху падения и головокружению, танцевал на канате без всякого труда, кроме того, моя сокровенная «невеста» брала на себя тяжесть моего тела. Вижу по тебе, брат Ди, что ты сейчас спрашиваешь себя: «Почему же этот Бартлет Грин, несмотря на свои редкостные способности, не придумал ничего лучшего, как стать жонглёром и разбойником?» Вот что я тебе на это отвечу: свободу я обрету только после крещения огнём, когда «тайгерм» проделают со мной. Тогда я стану главарём невидимых ревенхедов и с того света сыграю папистам такой пиброкс, что у них в ушах будет звенеть ещё лет сто; и пусть себе палят на здоровье из своих хлопушек, в нас они всё равно не попадут… Да ты, жалкий магистеришка, никак сомневаешься, что у меня есть «серебряный башмачок»? Смотри сюда, Фома неверующий! — и Бартлет уперся носком своего правого сапога в пятку левого, собираясь его стащить, и вдруг замер, оскалив острые зубы, и, широко, как хищный зверь, раздув ноздри, с силой втянул воздух. Потом насмешливо бросил: — Чуешь, брат Ди? Запах пантеры!»
Я затаил дыхание, и мне показалось, что мои ноздри тоже уловили пряный опасный запах. И в то же мгновение снаружи, перед дверью камеры, раздались шаги и загремели тяжёлые железные засовы…
На этом месте я словно споткнулся. Посидев растерянно с минуту, я отложил зелёный сафьяновый журнал и крепко задумался.
Запах пантеры!..
Где-то я читал, что над старинными вещами может тяготеть проклятие, заговор или колдовство, которые переходят на их нового владельца. Казалось бы, ну что страшного — посвистел какому-то бездомному пуделю, который перебегал тебе дорогу во время вечерней прогулки! Взял его к себе из сострадания, в тёплую квартиру, и вдруг, глядя на черную курчавую шерсть, встретился глазами с дьяволом…
Неужели со мной — потомком Джона Ди — происходит то же самое, что в своё время приключилось с доктором Фаустом? Или я, вступив во владение этим полуистлевшим наследством, оказался в магическом круге древних преданий? Быть может, я приманил какие-то силы, потревожил какие-то могущества, которые спали в этом антикварном хламе, затаившись подобно окуклившимся личинкам в дереве?
Что же всё-таки произошло? Что заставило меня прервать чтение записей Джона Ди? Признаюсь, это стоило мне известных усилий, так как странное любопытство овладело мной незаметно для меня самого. Мне не терпелось узнать, как иному заинтригованному любителю романов, дальнейшие события в подземной камере Кровавого епископа Боннера, и прежде всего: что имел в виду Бартлет Грин, когда сказал: «Запах пантеры!»?..
Ладно, хватит ходить вокруг да около, с самим собой надо быть откровенным до конца: уже несколько дней я не могу избавиться от ощущения, что во всем, имеющем отношение к наследству Джона Роджера, нахожусь под чьим-то постоянным контролем. Теперь я до кончиков ногтей прочувствовал, что значит слепо повиноваться. Но ведь я сам решил отказаться при составлении жизнеописания моего английского предка от цензуры авторского сознания и последовать наставлению «Януса» или, если угодно, «Бафомета»: «Читай то, что я вложу в твои руки». Так что лучше вопросов не задавать и беспрекословно подчиняться… И всё же: эта маленькая заминка в моей работе произошла с «высшего соизволения» или случайно?
Я хотел было продолжить, но едва взял перо в руки… Странно, очень странно! С того момента, как я воспроизвёл на бумаге разговор Бартлета Грина и Джона Ди, прошло не более получаса. Но то ли я не совсем точно и достоверно помню некоторые мои чувственные восприятия за этот короткий промежуток времени, то ли они всё равно что галлюцинации, тени пережитых событий, легко и эфемерно скользящие между пальцев моего полусонного сознания… Так или иначе, внезапно в мой кабинет проник «запах пантеры»; точнее: мои органы обоняния зафиксировали неопределенный запах хищного зверя — в моей памяти всплыл образ цирковой арены с клетками, и там, за частыми прутьями решетки, от которых рябило в глазах, беспокойно и сосредоточенно расхаживали из угла в угол огромные чёрные кошки.
Я вздрогнул. В дверь моего кабинета настойчиво постучали.
И не успел я пробурчать своё, скажем прямо, не очень любезное «Войдите» — о моём отношении к неожиданным визитам я уже упоминал, — как дверь резко распахнулась настежь. Мелькнуло растерянное, смущенное лицо старой, так хорошо вышколенной мною экономки, но туг же, проскользнув мимо неё, в кабинет упругим, энергичным шагом ворвалась высокая, очень стройная дама в тёмном искрящемся платье.
Но что это я — ворвалась?! Сказать такое о даме, особе явно аристократичной, непоколебимо уверенной в силе своих чар! Тем не менее, несмотря на несколько излишнюю, свойственную романтизму экспрессию, именно этот глагол наиболее точно передаёт первое, непосредственное впечатление от этой совершенно незнакомой мне женщины. Словно что-то отыскивая, её прекрасная точеная головка на тонкой гибкой шее тянулась вперед. В стремительном порыве дама чуть было не проскочила мимо меня; подобно слепым, которые умеют читать кончиками пальцев, она, словно в поисках опоры, вытянув вперёд руку, нервно ощупывала край письменного стола. Но вот её пальцы замерли, и всё тело незнакомки сразу как-то расслабилось, успокоенно опёршись, словно приклеившись, ладонью о стол.
Совсем рядом стоял тульский ларец.
С неподражаемой, врожденной естественностью, научиться которой невозможно, она двумя-тремя шутливыми фразами — славянский акцент прозвучал в них довольно отчетливо — сняла несколько необычное, я бы даже сказал, шокирующее напряжение ситуации и тут же пустила мои беспорядочно растекшиеся мысли по интересующему её руслу: