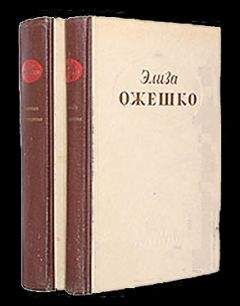— А вы держите языки на привязи! — Он резко взмахнул рукой. — Не то, хоть я человек смирный, а тоже рассердиться могу не на шутку! Что вам за дело, куда она ушла и когда вернется, скоро или не скоро? Если она кого и обидела, так меня, а не вас! Да только и мне она ничего худого не сделала. К родне своей уехала — и с моего позволения. Так и знайте! Значит, языками не треплите, и чтоб я от вас больше никогда не слышал про нее худого слова!
— Бог с тобой, Павлюк! — жалобно воскликнула Ульяна. — Видно, ты нас совсем разлюбил, коли так обижаешь… А все из-за этой мерзавки беспутной! — добавила она тише.
Жалобный тон сестры, которую он, как отец, вырастил и замуж выдал, немного смягчил Павла.
— Не обижаю я вас, — сказал он уже спокойнее. — Только прошу и приказываю, чтобы не делали мне неприятностей. Я вам их никогда не делал, так и вы мне не делайте… А Франка с моего согласия к родне ушла. И скоро вернется или не скоро, про это я сам знаю. Так и запомните.
Отойдя от них, он перелез через плетень и снова стал у своей хаты, прислонясь спиной к стене. Он дышал тяжело и шумно, как человек сильно утомленный, и не сводил глаз с едва уже заметной дороги, белой лентой пересекавшей темные поля. Козлюки ушли к себе, и в двух оконцах хаты засветились золотые огоньки, А хата Павла стояла темная, запертая, безмолвная. Такое же безмолвие и мрак окутывали землю, и только перед самым наступлением ночи налетел откуда-то ветер, зашуршал сухими стеблями в саду и умчался к сосновой роще, окружавшей могилы и кресты. Сосны затрясли ветвями, зашумели. Тучи черным сплошным пологом низко нависли над землей и сеяли мелкий дождик. Близилась осенняя ночь, долгая и темная, — коротать ее на вечерницах начинали в деревне позднее, ближе к зиме. А сейчас, кроме собак, пробегавших порой под плетнями и стенами, ни одно живое существо не показывалось на улице. Во всех хатах ярко пылал огонь и шумели веселые голоса.
В роще над могилами жалобно закричала сова, и в эту минуту тихо скрипнули ворота. Кто-то быстро прошел в темноте по двору, и перед Павлом выросла фигура женщины.
— Павлюк! — окликнула она его шепотом.
— Чего надо? Кто тут? — спросил Павел, словно просыпаясь.
Женщина ответила не сразу. Она была небольшого роста и, чтобы посмотреть ему в лицо, должна была откинуть голову. Так, с откинутой назад головой, она заговорила:
— И чего ты, Павлюк, торчишь ночью у двери, словно часовой? Чего стоишь, как столб, и на поле глаза пялишь? Ведь ночь на дворе! Ступай в хату, слышишь? Ну, иди же, а то люди подумают, что ты в уме тронулся и что с тобой неладное творится!
Все это она говорила шепотом — неизвестно почему, так как ничего секретного в ее словах не было, да и вблизи не было никого, кто бы мог их подслушать. Таким шепотом всегда говорят люди у постели тяжелобольного или у гроба умершего. Звучала в нем и беспокойная забота, и страх перед тем грозным и таинственным, что кроется в болезни и смерти.
— Слышишь, Павлюк? — повторяла она все настойчивее. — В хату ступай! Что ты тут выстоишь? Вот уже и дождик пошел. Ну, иди же, иди!
Говоря это, она обеими руками и всем своим тщедушным телом подталкивала Павла к дверям. Но его возмутила такая настойчивость.
— Чего тебе от меня нужно, Авдотья? Чего пристала, как смола? — сердито буркнул он. — Отвяжись, ради бога! Захочу, так и всю ночь тут простою, — не твоя забота!
— Нет, не простоишь! Не дам я тебе загубить себя. Мало, что ли, я на своем веку хворых видала и от смерти спасала! Спасу и тебя.
Видимо, состояние, в котором находился Павел, Авдотья, считала чем-то вроде тяжелой болезни. Еще утром, встретив его на берегу, она так и впилась в его лицо живыми глазами, покачала головой и тихо сказала:
— Что-то ты, Павлюк, погано выглядишь — словно тебе одна неделя до смерти осталась!
И, бодро, взбираясь на гору с ведром воды для снохи, она подумала, что надо будет вечером проведать Павла.
— Пойдем в хату, там я тебе что-то про Франку скажу, — зашептала она снова. — Максим сегодня из города приехал: он ее там видел. Пойдешь в хату, так скажу, а нет — оставайся тут один, коли ты, как глупое дитя, упрямишься и не хочешь, чтобы помогли тебе!
Авдотье недаром пришло в голову сравнение с ребенком. Сколько раз, когда сын ее Максим или кто-нибудь другой из ее детей, а позднее и молоденькая сноха лежали на топчане в жару и у них что-нибудь болело, она стояла над ними с горшочком горького отвара целебной травы в одной руке, с кусочком сахара или ложкой меда в другой и твердила:
— Если выпьешь травку, дам медку, а не выпьешь — лежи, как скотина бессловесная и неразумная.
— Слышишь, Павлюк? Если пойдешь домой, так я тебе что-то про Франку расскажу, а не пойдешь — ничего не узнаешь… Что же, мне с тобой тут всю ночь стоять да мокнуть на дожде, как собака?
Павел надвинул шапку на глаза.
— Никаких вестей про нее мне не надо, — сказал он запальчиво. — Я сам все знаю. Она к своей родне уехала.
Как давеча с урядником, с сестрой и зятем, так и сейчас с Авдотьей он говорил необычным для него тоном: сухо и с раздражением. Все же он повернулся к двери, со стуком распахнул ее и, раньше чем войти в темные сени, в последний раз кинул взгляд на черные поля и уже совсем невидную в темноте дорогу.
Очутившись в неосвещенной избе, Авдотья заговорила громче, чем прежде, но все еще невольно понижая голос:
— Ой, и холод же у тебя тут! Дня три, должно быть, печь не топлена? А ел ты сегодня что-нибудь? Наверное, нет, потому что и огня не разводил. Ну, давай спички, затоплю и ужин тебе сготовлю. Ох, старый уже мужик, а разуму ни на грош! Давай спички, говорю! Где они у тебя?
— Не знаю. Сделайте милость, поищите сами, — охрипшим голосом сказал Павел и сел на лавку у окна.
Женщина бесшумно, как мышь, сновала по темной избе и, разыскивая спички, шарила на печи, шестке, по столу и лавкам, бормоча про себя:
— А, хвороба на вас! Чтоб вам повылазило!..
Это она так кляла спички, которых не могла отыскать. Наконец они нашлись, и тотчас в руках у Авдотьи блеснул синий огонек, затем длинным пламенем загорелась сухая щепка: Авдотья нашла ее на полу, тоже ощупью, и теперь держала в поднятой руке, ожидая, когда она хорошо разгорится. Пылавшая, как факел, щепка перед отверстием глубокой, пустой и давно остывшей печи осветила голову старухи в красном платке, ее лицо, изрезанное множеством мелких морщинок на лбу, щеках, у рта и вокруг глаз, но круглое и румяное, как крепкое осеннее яблоко, только слегка тронутое морозом. В живых и умных черных глазах огонь зажигал золотые свечечки. Авдотья уже развеселилась и тараторила:
— Ну вот, сейчас будет тебе и огонь и ужин, и в доме станет тепло. Сало у тебя есть? Разве похлебку с салом сварить? Ведь если начать картошку чистить, так ты до полуночи голодный будешь сидеть. А похлебку мигом состряпать можно. Потом посидим с тобой, потолкуем, а если хочешь, так и заночую тут — все не будешь один, как волк. Хоть ты раньше и жил один, да отвык уже, наверно… Думаешь, я не понимаю? Я все понимаю! Когда мой помер, у меня сердце так ныло, что, останься я одна хоть на минутку, — кажись, померла бы, тут бы мне и конец! Да некогда было помирать — дети не дали… За детьми надо было смотреть… Ну, и подгрудник я пила, он тоже помог. Я и тебе подгруднику принесу, — когда заботы и горе крепко к сердцу подступят, только этой травы попей, сразу полегчает… Переночую, а утречком рано опять тебе печь растоплю и побегу к своим… Ого, я еще, слава богу, на два дома хозяйничать могу, со всем управлюсь! И охота есть, и сил хватает… Отчего бы и нет? Хорошему человеку в беде помочь — разве это малое дело? Господь за это мне грехи отпустит. А захочешь отблагодарить — принесешь нам как-нибудь рыбки. Тадеуш и Гануля страсть как рыбу любят, шельмы. Больше, чем сахар и баранки… А не захочешь — бог с тобой, не приноси. Только бы мне тебя от этой поганой хвори вылечить! И вылечу! Отчего же не вылечить? Не такие болезни я лечила…
Должно быть, Авдотья не видела большой разницы между горем и болезнью, и ей даже казалось, что первое излечить легче. Она говорила все громче и веселее, а при упоминании о «шельмах» Тадеуше и Гануле даже засмеялась. Присоединив к горящей щепке вторую, третью и четвертую, она собиралась уже бросить в печь целый пучок огненных языков, как вдруг Павел крепко схватил ее за руку.
— Не зажигайте огня! Ради бога, не зажигайте! — произнес над ее головой хриплый голос, в котором звучала такая тяжкая мука, такое душевное изнеможение, какие Авдотья не раз за свою долгую жизнь слышала в голосе умирающих. Ей стало страшно, и она быстро обернулась.
— Почему? — спросила она и, все еще держа в руке горящие щепки, широко открытыми глазами всматривалась в склоненное над ней лицо Павла. — О-ох, с ума спятил, ей-богу, спятил! Ну, на что ты похож! Если бы ты сам себя увидел, — перепугался бы!