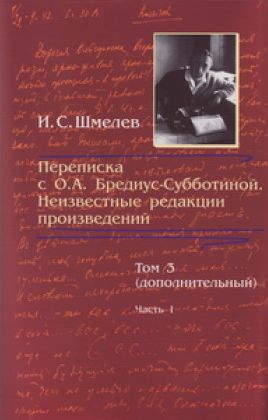в серебряных сосудах: ладан зернышками, рис и хлеб. Мы все вокруг этого стола. Батюшка светлый весь. А я в длинных малиновых штанах и белой рубашке с широкими рукавами и в платке, красном. А на ногах белые чувяки. Кто-то говорит, что надо надеть белое платье и так в нем и остаться до воскресенья. Это будто бы в Великий Четверг происходит. А говорит о платье один, умерший теперь, инвалид из Tegel’я, — бывал он периодически сумасшедшим… Я остаюсь, как была, только платок сменяю далматинской шапочкой. И вот стоим… Вдруг влетает маленький белый-белый голубок. Садится на стол и клюет… ладан… Я думаю… символ Духа Святого! Как хорошо! Но тут летит еще один и садится на рис. Я думаю — жаль… почему же 2? И вот 3-й! Летит ко мне! Садится на левую ладонь мою, а в правой руке у меня горит свеча. Я рада, очень рада… и думаю… — 3! Это символ Святой Троицы! Кормлю голубка хлебом, и он остается у меня спокойно и клюет хлеб!
И все…
И вот еще: я должна идти исповедаться. Все в том же странном наряде. Похожа на мальчика-турчонка.
Подхожу к Царским Вратам, закрытым. Жду батюшку, хочется построже. И думаю о грехах… И вот, когда хочу склониться на колени для молитвы… вижу, что на полу стоит огромная _ч_а_ш_а, в золотой оправе красное стекло… Пустая. Даже стенки сухи!
Проснулась.
И еще…
Я получаю твою книгу: 2-ая часть «Путей Небесных».
Я безумно рада. Сердце билось до боли. Беру… как она мала. Тоненькая книжка… Я открываю крышку и вижу, что смотрю с конца. Последняя белая страничка, на которой обычно стоит: «права сохраняются за автором»… написано: «Эта книга последняя, написанная при жизни супруги автора». Я думаю: это же не может быть. О. А. скончалась в 36 году, когда же издавали? Ищу начала книжки и вижу, что вся она полна портретов. Портретов гоголевских типов. И вся о Гоголе. Я в ужасе, что тут ошибка, — переплетено вместе с Гоголем. Волнуюсь. Ищу, ищу тебя, твое имя, разгадку. Я чуть не плачу… И вот… наконец… портретов нет больше. Я жду, что твой портрет увижу. Еще одна белая страничка и…
я проснулась.
Я очень страдаю за «Пути». Пиши их! Ты должен! Ах, если бы ты мне хоть чуточку приоткрыл эту завесу! Я тебя как-то просила. Правда очень робко. Смущалась быть навязчивой. Ты не ответил. Я не прошу, если не хочешь. Но ты же рассказывал О. А.?
Конечно, я не претендую на такое же доверие. Но мне так бы очень, очень хотелось… Я уже давно этого жду!.. Если тебе не хочется, то обойди молчанием! [61]
Вся ночь была так мучительна. Сегодня, после шторма, все утихло, и даже солнце. Я встала. Я принимаю твои лекарства. Но трудно унять себя… Пиши! Это — моя жизнь. Послушай, Иван Сергеевич, я не говорю никогда, преувеличивая словами. Все, все так, как я пишу.
Пойми же это! Ты ведь так много меня умнее, такой у тебя жизненный опыт, — помоги мне, успокой!
Самое мое тяжелое — это то, что именно я не вижу выхода. При душевном состоянии мужа (его Neurose) очень трудно с ним что-нибудь решить, и так сразу…
Не говоря о том, что мне вообще тяжело это.
Не то, что я его уж так жалею, что не решаюсь, а потому, что я знаю, что может быть…
У него в детстве было одно поистине ужасное происшествие, после чего он не хотел жить. Потом он замкнулся, стал чудаком. Женщины были для него или Мадонны, или девки… средины не было.
Во мне нашел он эту середину… Т. е. я его помирила с небом и преисподней. Это играло большую роль в нашем браке. Мы встретились в церкви. Я говорила с его доктором-психологом. Женитьба была его спасением. И доктор добавлял: «даже если вы и разойдетесь, — то все-таки это лучше, т. к. он втолкнулся в среду людей». Он много изменился. Но все же: — у меня жизни нет…
Теперь ты знаешь все. Знаешь, почему мне трудно уйти сразу. Не потому что не хочу, а потому, что не знаю что и как лучше!.. Я говорю, что может все очень просто разрешится, если будет такое подходящее положение, и наоборот, может все кончиться трагедией… Нельзя за его реакцию положиться. Я не хочу сказать, что он ненормальный — нет. Это способнейший, умнейший человек, но его детская драма сделала его подозрительным, недоверчивым, замкнутым, больным. Меня его один школьный товарищ предупреждал. И поездка в Париж могла бы быть для меня роковой. Но я все-таки не оставляю надежды. И чем я спокойней буду, чем меньше подозрений у него о тебе, тем это легче. Я ему теперь сказала, что мне необходимо было бы увидеть тебя для переговоров о твоей литературной работе… Ничего, довольно спокойно… Но пойми, какие силы мне нужны… Потом, нам обязательно надо увидеться… Непременно. Постарайся ты у себя чего-нибудь добиться. Нашего батюшку выписывали его родители. Как-то устроили. М. б. связи? Не знаю. Самое мое главное мучение — это твое мучение. Умоляю: не терзай себя! Пиши «Пути». Бог все укажет! Я так верю! Если не суждено увидеться пока, то надо терпеть и петь Богу! Дай же и мне начать! В таком состоянии я не могу! Я тебе много писала об искусстве, о разном, а ты не ответил?.. Почему? Я спрашивала о твоей семье, о твоей матери? Вчера мне было легче, — я думала, что у тебя Ивик. Он ведь бывает по субботам. Тебе не было так одиноко… А ты думаешь я не одинока?! О, как я одинока! Всегда, всю жизнь! И как я тоже люблю тепло и ласку! Папочка меня звал «ласкунчик». Господи, пошли силы! За бабушку я извожусь совсем60. Пойми, что надо надеяться только на себя, на свое, — все чужие — только чужие! Неужели ты не веришь в свое?? Гордись своим! Это оно так чудесно! Это — подлинное, воспетое тобою! Вся скверна уже не поднимется больше все равно! Ее не будет! Ответь мне скорее.
[На полях: ] Обнимаю тебя, вся в слезах, как девочка (я еще совсем девочка!), ищу твоей защиты в горе! Целую тебя, солнышко. Оля
Пиши! Я не могу! Твой цветок дал новые цветы! Пиши мне! Я беспокоюсь о твоем здоровье. Пиши — в этом моя радость! Мое здоровье.
Не обижайся, будто я не хочу твоих «даров», — теперь ты