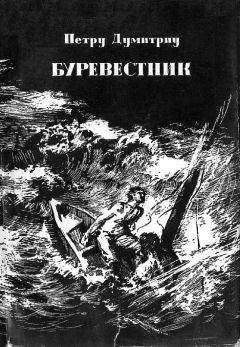Рыбаки покатывались со смеху, держась за животы: ну, мол, и выдумает же этот Емельян! Но Ермолай был совершенно серьезен:
— А вы что думали? Объясняю ему, как и что: я, говорю, жизнью рискую, чтобы ты рыбу жрал, а он свое: плати цельный билет! Обругал его как надо и слез…
Из-за угла выбежало несколько человек.
— Скорей, ребята, вас машина ждет! — крикнул Емельян. — Полегче, Михайло, а то портки потеряешь!
Он не стал больше никого ждать и с удивительной для его грузной фигуры легкостью забрался в кузов. Его примеру, весело толкаясь, последовали другие. Ермолай захватил с собой свернутое в трубку большое красное одеяло туго перевязанное веревкой. Тише всех вел себя Симион Данилов, лишь изредка отвечавший мрачной улыбкой на какую-нибудь особенно забористую шутку. Он одним из первых вскарабкался на грузовик. Евтей, все еще стоявший у ворот, ждал, не посмотрит ли он перед отъездом на отчий дом, но Симион затянул какую-то протяжную, чувствительную песню и другие подхватили ее. Головная машина тронулась, за ней вторая, третья и вскоре все исчезло в густом облаке пыли, позолоченной лучами заходящего солнца.
Евтей закашлялся, сплюнул — часть слюны осталась у него в бороде, — и пошел в дом.
— Куда ты запропастился? — кричала старуха. — Где ты там? Помер, что ли?
«Хоть бы она про смерть не поминала, — с ненавистью думал Евтей. — Так бы, кажется, обухом ее и огрел…»
— Иду, — покорно ответил он, — сейчас…
— Чего на улице шумели?
— Ничего. Рыбаки уезжали. И Симион уехал.
Порт был ярко освещен электрическими фонарями и рефлекторами. Полосы света пронизывали столбы поднимавшегося в темное небо дыма. Бриз чуть заметно колыхал флаги. Пароход «Феликс Дзержинский» (Одесса), водоизмещением в двенадцать тысяч тонн, работал всеми кранами, нагружая кормовые трюмы и разгружая носовые. Тягачи тащили к причалам прицепы с ящиками для накренившегося «Альмиранте Брауна» (Коста-Рика); на палубе грязной турецкой парусной фелюги матросы готовили что-то на жестяной печурке; протяжным, сиплым басом гудела сирена черной громадины со ржавыми бортами — «Блу Стар» (Лондон): пароход собирался уходить и вызывал лоцмана; надрывно скрипел лебедками «Очеано» (Генуя); ржавчина на его обшивке свидетельствовала о дальнем плавании: «Очеано» пришел из Китая. У нефтяного причала стоял на швартовых белый, нарядный «Апшерон» (Одесса). На его палубе не было видно никакого движения; бесперебойно, незаметно, автоматически работали подававшие нефть насосы. Белый красавец «Саголанд» (Гетеборг) распространял невыносимое зловоние: в его трюмах было несколько тысяч тонн сырых шкур из Буэнос-Айреса. На пристанях завывали тягачи; грузчики таскали мешки; высоко в воздухе болтались подхваченные лебедками ящики; от элеваторов, как всегда, пахло пшеницей и мышами; при свете электрических огней металлически поблескивала вода, на которой плавали жирные пятна нефти, дизтоплива, мазута, переливавшиеся всеми цветами радуги: лиловым, розовым, пурпуровым… Тут же плавали капустные листья, газеты, старая метла — и все это лениво ударялось о борта старых, серых судов и суденышек с высокими кривыми трубами, судов, которые бороздили моря с 1900 года, а может быть и ранее, пережив много капитанов, много судовых экипажей, много штормов, перевидав все океаны, познакомившись с самыми необычайными грузами.
Среди них находился и бывший грузовой пароход, а нынче судно Румынского рыболовного флота, «Стяуа-дин-Октомбрие» (Октябрьская звезда). Он блистал свежей окраской, и на его трубе, там, где раньше были инициалы или отличительные цвета пароходных обществ, красовался теперь желтый осетр на голубом поле. Из этой трубы валил черный дым. «Октябрьская звезда» вздрагивала до самой верхушки своих мачт. На баке царила необычайная суматоха: кричали люди, грохотали паровые лебедки, натягивая стальные тросы, в воздухе болтались ящики.
На правом борту с грохотом повернулась лебедка, закашлялась паром, и ящик, вместо того чтобы плавно опуститься в трюм, шлепнулся рядом и разбился. Сотни луковиц покатились по палубе. С капитанского мостика послышался возмущенный окрик:
— Эй! Хорош гусь! Лебедку бросил!
Наверху показалась взлохмаченная голова и тот же голос продолжал:
— Где третий помощник? Третий помощник!
— Есть!
— Товарищ Константин! Будьте добры, встаньте к лебедке! А ты, там, подбирай лук, для чего ты еще годишься! Ну и народец же у меня на этой развалине подобрался! Любители, а не матросы! Какой же ты лебедчик? А что, если бы в ящике мотор был? Или зеркала? Или, скажем, часы? Зачем ты меня, маменька, моряком родила!
Голова скрылась где-то в штурвальной рубке — в третьей надстройке древнего сооружения из железа и выкрашенного белой краской дерева, носившего гордое название «Октябрьская звезда».
Виновник происшествия принялся собирать лук в остатки разбитого ящика.
— Что я, нарочно, что ли? — протестовал парень. — Не прежние времена… Велика важность — ящик с луком! Я же его чинить буду… Чего ругаетесь?
Третий помощник встал за лебедку, изредка поглядывая на своего соседа, молча работавшего за другой лебедкой. Это был худой, сухопарый человек, с впалой грудью, длинной шеей, маленькой головой и узким, острым подбородком. В углу рта у него дымилась приклеившаяся к губе папироса, лицо искривилось в гримасе. Он был совершенно спокоен; казалось, он не видел и не слышал ничего, что происходило вокруг, и, щурясь от табачного дыма, молча делал свое дело. Третьему помощнику очень хотелось знать, какие последствия будет иметь вспышка старшего помощника капитана, которая внушала ему некоторое беспокойство. «Хотя в конце концов, — думал он, — что может из этого выйти? Ведь не зря, а за дело попало: разве можно быть таким растяпой». Но молчание соседнего лебедчика, товарища Прециосу, не предвещало ничего доброго. «Верно говорит товарищ Николау, что если первый помощник не будет глядеть в оба, на судне никогда не будет порядка. И чего этот парень так разворчался?»
Поведение провинившегося матроса возмущало третьего помощника.
— Черт с ней, с матросской службой… — ворчал парень, — словно, ей-богу, в прежние времена…
Он продолжал жаловаться, ни к кому в частности не обращаясь, но было ясно, что все это говорилось для ушей Прециосу, который невозмутимо сосал свою папиросу. Третий помощник был малый застенчивый и неразговорчивый, но и его наконец прорвало:
— Слушай, Лае! — как можно строже сказал он, набравшись храбрости. — Ты бы лучше помалкивал и в другой раз был внимательнее! Разбиваешь ящики и еще ругаешься!
Матрос удивился и посмотрел не на третьего помощника, а на Прециосу: что он скажет? Но Прециосу, по-видимому, совершенно не интересовался инцидентом, так что Лае замолчал. У него была пышная курчавая шевелюра с височками и маленькие усики; на одной руке был вытатуирован якорь, на другой — русалка. Равнодушно посвистывая, он снова занялся луком.
Внизу, на пристани, начальник рыболовной флотилии, следивший за всем, что происходило на палубе «Октябрьской звезды», вопросительно посмотрел на капитана Хараламба. Тот уставился на него своими маленькими, голубыми глазками и сказал:
— На любом другом судне за лебедку немедленно встал бы рулевой.
— Почему же у вас рулевой этого не сделал?
— Рулевые заседают с Прикопом Даниловым, — ответил капитан, продолжая смотреть прямо в глаза начальнику. — Профсоюзное заседание…
Начальник рыболовной флотилии, еще нестарый человек, с большим носом и черными, умными глазами, тоже когда-то был матросом. Одежда его, правда, этого не выдавала, но на руке у него виднелся вытатуированный якорь. Не отвечая капитану, он повернулся к нетерпеливо ждавшим его в нескольких шагах подчиненным, на лицах которых читалось крайнее утомление.
— Где шоферы? — спросил он.
— Здесь, товарищ начальник.
Шоферы грузовых автомашин, которые привезли рыбаков из Даниловки, с усталым видом подошли поближе. Они были покрыты густым слоем пыли и курили.
— Почему вы не привезли рыбаков прямо в порт?
— Как мы остановились у ворот № 1, для проверки, так они и соскочили, — за всех ответил один, — Сказали, что идут пить пиво и сейчас вернутся.
— Сейчас… Пиво! — возмущенно повторил начальник флотилии. Морщины по обеим сторонам его рта углубились, придав лицу выражение крайнего отвращения.
— Кто видел когда-нибудь, чтобы они пили пиво? — спросил он. — Товарищ Василиу!
Вперед выступил высокий, худощавый человек, правильные черты которого и улыбка, обнажавшая белоснежные, блестящие зубы, говорили о том, что когда-то он был весьма недурен собой. Но теперь у него были мешки под глазами, он был слишком худ и имел вид человека, который часто не высыпался и давно как следует не обедал.