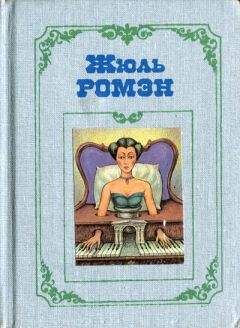Должен сказать, что в таком состоянии, несмотря на свою невинность, она действовала на меня, как самое сильное возбуждающее средство. Ни томный вид, ни вызывающая шаловливость не возбудили бы меня до такой степени. Это слишком напомнило бы мне обыкновенную любовницу. Я подумал бы, впрочем, с удовольствием: «Вот славная женщина, недурно справляющаяся со своим новым делом и даже, по-видимому, входящая во вкус». Между тем, при каждой новой фразе Люсьены внутренний голос упрямо, полубезумно, а потом и вовсе безумно, говорил мне:
«Что ты делаешь? О чем думаешь? Ты опаздываешь. Ты никогда не будешь достоин быть мужем этой женщины. Этой поистине восхитительной женщины. И посвятив обожанию ее тела все минуты твоей жизни, ты все-таки будешь только нерадивым слугой. Как можешь ты допустить, чтобы в данный момент ее тело было лишено всякой ласки и чтобы все-таки она благодарила тебя? Оборви сейчас же ее слова благодарности. Преврати их как можно скорее в дыхание без слов, а потом в ее вчерашний стон-воркованье. Это единственная благодарность, которую тебе не стыдно будет принять. Раб Люсьены. Раб, уже с избытком вознагражденный охватившим тебя пылом. Кровать ждет».
Обежав в один миг всю вселенную, мой ум без труда оправдал мое исступление. Где во всем мире найти идол более достойный поклонения, чем тело Люсьены, совершенное, как самое прекрасное творение, чудесным образом соединенное с мыслями Люсьены, с благородством Люсьены, с ее внимательностью, ее пылом, с грацией ее благодарности? Куда погрузиться по более высоким побуждениям, чему пожертвовать собой с более легким сердцем, в чем без сожаления раствориться?
* * *
Так мы остались в Руане три лишних дня. И как-то само собой время распределялось в эти три дня одинаково.
Утром прогулка, подобная той, о которой я только что рассказывал. Самые обыкновенные разговоры, среди которых мелькнет порой любовная мысль и потом не перестает больше змеиться. У меня сначала умеренное возбуждение, но с каждой минутой мне все труднее и труднее сдерживать его. Я справляюсь с ним не силой привычки, а силой возникшего ритуала. Мое желание лишь растет от подчинения известного рода церемониалу.
Послеполуденное время проходило в комнате, в «царстве плоти». Мы входили в него и следовали по нем каждый раз одними и теми же путями, повторяя с педантической точностью все, что делали накануне.
Вечером мы ходили куда-нибудь в кафе, где было много людей, и смотрели на них. Люсьена говорила мало. Она не переставала думать о новом мире, который она посещала вместе со мной. Когда я спрашивал ее: «О чем ты думаешь?», она отвечала: «Об этом мужчине и этой женщине, что сидят вот там: вернее, о том, что я думала бы о них прежде, и о том, как это все было ничтожно. Когда я видела мужчину и женщину, входящими вместе в зал, как вот эта, я представляла себе их связь так слабо. Теперь же представляю себе ее вполне отчетливо. Достаточно, чтобы женщина слегка улыбнулась, глядя на мужчину, или мужчина блуждал глазами по ее телу».
* * *
Когда наше путешествие возобновилось, стало трудно продолжать этот ритуал. Мы старались устроиться так, чтобы время от времени посвятить плотской любви целую половину дня. Но по большей части приходилось довольствоваться более кратким временем. При выборе его я считался с намерениями Люсьены, стараясь в то же время соблюдать два правила, казавшиеся мне весьма важными, которые иногда мне очень трудно было согласовать: во-первых, не пропускать ни одного дня, не почтив так или иначе тела моей жены; во вторых, всячески заботиться о том, чтобы наша любовная жизнь не приняла характер чего-то машинального (ритуал и машинальные действия бесконечно различаются между собой); в частности, отказываться от обладания каждый раз, когда недостаток времени, усталость или неподходящие условия грозили превратить его в действие, которое совершают лишь бы от него отделаться. Мне хотелось, чтобы в глазах Люсьены «единение тел», которое она так чудесно ожидала и восприняла, оставалось нераздельно связанным с самым бодрым и просветленным состоянием живого тела.
Она также придерживалась этого взгляда. Разумеется, подобно мне и с еще ярче выраженным милым суеверием она страшилась пропустить хотя бы один день без посещения «царства плоти». Но когда обстоятельства не позволяли большего, она умела выбирать одну какую-нибудь ласку и вкладывала в нее весь свой пыл.
Во время нашего путешествия я окончательно убедился, что тот плохо понял бы Люсьену, кто счел бы ее женщиной «чувственной» в обычном смысле слова, и что муж, который обращался бы с ней, как с таковой, неминуемо вызвал бы в ней отвращение к физической любви. Это обстоятельство часто служило темой моих размышлений, а также моего удивления. Вид охваченной любовью Люсьены привлекал ум и даже требовал его присутствия. Мужчина пылкий и ласковый, но неспособный построить новую систему представлений для более тесного общения с другим существом, совершил бы возле нее целый ряд глупостей.
Довольно было бы самого банального недостатка проницательности (т. е. умственного уровня среднего самца), чтобы во время этих часов любви, длившихся полдня, сказать себе, впрочем, внутренне поздравляя себя, что женщина, которую удалось получить в жены, обладает самым пылким темпераментом, умеет подолгу смаковать свои ощущения, всегда готова вносить в них разнообразие, не только податлива ко всяким опытам, но смела, порою предприимчива, наконец, способна искусно продуманным путем, никогда не оступаясь по дороге, доходить до такого неистовства сладострастия, после которого четверть или даже полчаса она лежала как в глубоком обмороке.
Я, разумеется, не стану утверждать, что Люсьена не испытывала самых живых физических наслаждений или что она придавала им мало значения. Я убежден, что сладострастие ощущалось ею самым острым образом и давало ей такое же удовлетворение, как и самой чувственной женщине. Но то, чего искала Люсьена, никогда не было сильным ощущением.
Таким образом, сделавшись мужем Люсьены, я узнал то, о чем ни одна из моих любовниц не дала мне даже подозревать, а именно, что в обширном мире любовных наслаждений существуют две почти чуждые друг другу категории, хотя житейская мудрость их не различает, а враги тела одинаково осуждают их. И, по правде говоря, некоторые внешние проявления кажутся одинаковыми в обеих категориях. Но можно утверждать, что это только видимость и что оживляющий их дух глубоко разделяет их.
С одной стороны, есть проявления любви, образующие то, что может быть названо техникой полового наслаждения. Любовники или супруги считают, что в сущности они вступили в союз для взаимной выгоды. Они получают более полное наслаждение один благодаря другому, чем получили бы его раздельно. Их отношения определяются законом обмена. Испытываемое каждым из них удовольствие есть цель и объяснение всего их общения.
С другой стороны, бывают проявления любви, тесно связанные с известного рода культом пола, быть может, унаследованным от древнейших времен, а может быть, каждый раз вновь изобретаемым и воссоздаваемым отважными душами, способными поддержать его внутренний огонь. Этот культ опирается на две основные идеи: первую — что единение тел составляет величайшую тайну, выходящую за пределы обыкновенной механики жизни и граничащую со сверхъестественным, и вторую — что поклонение телу существа другого пола, когда это тело находится в состоянии свежести и во всем своем великолепии, выражаемом словами молодость и красота, является для человека способом поклонения неведомому, но подлинному божеству, которое скрывается за живым телом и пользуется различием полов, чтобы предложить каждому из нас близкий и осязаемый (пожалуй, также недолговечный) кумир.
Каждый жест, каждая поза влюбленной Люсьены дышали этим обретенным ею культом. Она не останавливалась перед самой смелой лаской, если видела в ней новый и более трепетный способ воздать поклонение телу своего супруга. Но для нее было бы напрасным оскорблением, которое, быть может, навсегда вывело бы ее из состояния благодати, если бы ей подсказали какую-нибудь другую ласку, в которой, несмотря на всю свою предупредительность, она увидела бы лишь желание более сильного ощущения или каприз похоти. И в самом акте обладания она с готовностью отвечала на все, что находилось в согласии с этой тайной единения тел. Но муж, который не разобравшись в природе ее пыла, попытался бы увлечь ее на путь чистого разврата, почувствовал бы внезапно, как она холодеет в его объятиях.
Все это объясняло также природу настроения, в котором я находился в течение этого периода. Частота и продолжительность наших объятий, затрата нервной энергии и постоянное возбуждение вместе с утомлением от путешествия могли бы вызвать у меня иногда чувство усталости. Или же меня мог бы охватывать в иные минуты тайный стыд, чувство отвращения к этим плотским радостям, которыми меня засыпали. Не заходя так далеко, я мог бы прийти к заключению, что поступаю вполне правильно, пользуясь обстоятельствами, которые жизнь не слишком расточает, особенно с такой удачей, но что вакации ума не будут вечными, и мне надо рассчитывать на его снисходительность, чтобы он не задавал мне слишком много вопросов, когда снова займет во мне нормальное место.