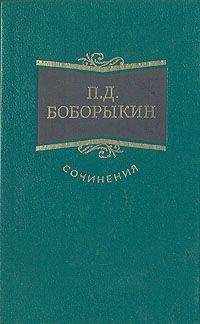Заплатин выговорил все это вяло, точно нехотя.
— Все едино! И те, что обшиваются в дешевых магазинах на Тверской, где строят студенческие формы. Все едино, братец ты мой! Пора покончить со всей этой маниловщиной.
— Какой, Шибаев?
— А вот насчет студента! Возводят его в какой-то чуть не мученический чин! И мы с вами пострадали, как принято говорить на жаргоне. А что ж из этого? Десятки, сотни, кроме нас. И что ж, Заплатин, — Шибаев подался к нему через стол, — как будто мы не знаем, сколько тут очутилось зрящего народа?..
— Панургово стадо?
— Именно! А самомнения-то во всех — ведрами, ушатами. Точно преторьянцы, состоящие при российском прогрессе… А я — прямо говорю — за целую дюжину таких избранников одного хорошего присучальщика не дам.
Право слово!
Год тому назад и даже полгода такие обличительные речи встретили бы в Заплатине сильный отпор. А он слушал не возмущаясь. Он точно забыл, что сам студент, что на нем пальто с позолоченными пуговицами, что его должна связывать с массой студентов особая связь.
Но дрогнуло ли у него за последние месяцы сердце, прошлась ли дрожь по спине от высокого духовного волнения в аудитории, или в товарищеской беседе, на сходке, или на пирушке?
Ни одного раза! И не потому только, что у него свой любовный недуг; и раньше, и в те минуты, когда его так сильно глодал червяк ревности, он ничего подобного не испытывал.
И много раз ловил он себя, возвращаясь с Моховой, на таком чувстве — точно он канцелярист, идущий из присутственного места, где строчил «исходящие» и перебеливал отношения.
— Вы куда же, синьор, собираетесь по окончании законом положенного срока? — с кривой усмешкой спросил Шибаев.
— Не знаю, — проронил Заплатин.
— В аблакаты небось? Или мечтаете об ученых хартиях? Оставят при университете? В магистранты потянетесь?
— Где же… Надо иметь другие аттестации, да я и не готовил себя к ученой дороге.
— Бросьте!
— Что бросить?
— Бросьте всю эту претенциозную канитель! Не стоит. Я вот в этот год, когда переменил окончательное свое обличье — и внутреннее и внешнее, — знаете, к какому выводу пришел?
— К какому? — живее спросил Заплатин.
Шибаев допил пиво, обтер пальцем пену на своих густых рыжих усах и крякнул.
— А вот к какому, милый человек: интеллигенция там, на месте, где жизнь-то делает народ, ни к черту не годится.
— Песня старая!
— Постойте! Дайте досказать. Не приравнивайте вы меня, пожалуйста, к нашим охранителям дореформенного типа. Я говорю только, что мы, с нашей мозговой дрессировкой, ни к черту не годны там, где нужно дело делать. На первом на себе я убедился. И проклинаю — слышите, проклинаю!
— все те учебные книги и книжонки, которые зубрил или штудировал гимназером и студентом.
— Как же быть?
— Бросить все, выкинуть из головы горделивую дурь, что я-ста — соль земли! Как бы не так! Вы просто кандидат на казенный или обывательский паек, потому что прошли через нелепую процедуру, именуемую экзаменом. Тьфу!
Шибаев сильно плюнул на клеенчатый пол.
И на это Заплатин не стал возражать. Он и сам не лучше этого смотрел на собственную особу как представителя интеллигенции.
Но и продолжать беседу не было большой охоты.
Они простились с бывшим однокурсником, даже не сказав друг другу своих адресов. Шибаев остался в пивной и заказал себе еще кружку пива.
От двух до трех можно, наверное, застать Пятова в конторе, в городе.
Туда и решил идти к нему Заплатин.
Он захватил с собою свою работу. Книг и журналов накопилось много, и нести их было неудобно.
Продумав ночью, до пятого часа, Заплатин решил, что завтра он должен иметь «нешуточный» разговор с Элиодором.
Расчет его оказался верным. Пятов сидел в конторе.
Когда его впустили туда, Элиодор ходил по конторе, а на диване сидел белокурый, большого роста — кажется, из немцев — коммерсант, в усах, бритый, старательно причесанный и одетый с иголочки. Воротничок и манжеты так и лоснились.
— Присядьте на минутку! — указал хозяин Заплатину на кресло в стороне.
Они торговались, и, кажется, уже довольно давно.
Гость — вероятно, приказчик какого-то фабричного склада — покупал.
Ему нужен был миткаль или что-то вроде этого. Он говорил совсем по-московски, без малейшего акцента, и раза два употребил в разговоре слова: "недохватка",
"заминка" и «курса». Элиодор с усмешечкой в глазах ступал по паркетному полу конторы маленькими шагами, переваливаясь с боку на бок, и руки держал чисто хозяйским жестом — в карманах панталон.
— Так как же, Элиодор Кузьмич?
Блондин встал и оказался действительно огромного роста.
— Как я сказал, Юлий Федорович! Это — самая крайняя расценка.
— Дорожитесь… Ну, хоть полкопеечки бы сбросили.
— Никак невозможно! Шесть с денежкой… Дешевле вы теперь не найдете нигде. Не у вас одних недохватка в миткале.
— Мы это превосходно знаем!
— Ergo! — пустил Элиодор латинский возглас. Стало быть, цена самая христианская.
— Даже и полушки не скинете?
— Не могу-с!
Тут Пятов вынул правую руку из кармана и повер тел ладонью в воздухе.
— Позвольте сообразить.
— Да что же тут соображать, Юлий Федорович?
— Четверть копейки на аршин. Это — обжект.
— Конечно. Даром никто не даст.
Заплатин слушал с полузакрытыми глазами, и его однокурсник, со всеми своими интеллигентными затеями, автор будущей книги об эстетических взглядах Адама Смита — выступил перед ним, как настоящее бытовое лицо.
И как его короткие фразы: "не могу-с", "самая решительная цена", — отшибали рядами, амбарами, Ильинкой, Никольской, Варваркой! Этот, и влюбившись, не уступит «зря» полушки.
Коммерсант ушел после крепкого пожатия и, на ходу, поклонился и Заплатину.
— Что, голубчик, — спросил его Пятов, — небось про себя обличали вашего товарища в сквалыжничестве?
Вместо ответа Заплатин только пожал слегка плечами.
— В делах иначе никак нельзя. Вы думаете, четверть копейки — пустяки? А она в иные минуты составляет весьма непустяшную сумму. Для вас это — хотя вы ведь тоже из торгового сословия — тарабарская грамота. И для меня было так же еще каких-нибудь два года назад. Я отстранял себя от всего этого. Презирал. Глумился. И тем немало огорчал родителей, даже и матушку, которая была весьма приятно удивлена, когда я изъявил готовность вести дело и серьезно к нему присмотрелся. Слава Богу! Теперь мы охулки на руку не положим.
— Верно! — выговорил одно слово Заплатин.
— Да вот вам один эпизодец из моих студенческих годов.
Тогда я, как настоящий интеллигент, зашибался дешевым альтруизмом. Вышла стачка на фабрике. Я и говорю матушке: накиньте им, значит, по гривенничку на кусок вот этого самого миткаля, который теперь до зарезу нужен на ситцевой фабрике Кранцеля.
Что такое гривенник! Однако меня тогда не послушали — и прекрасно сделали… Вот теперь я знаю — что такое лишний гривенник на кусок миткаля.
— А что? — спросил Заплатин.
— Чистая потеря в семьдесят тысяч рублей из хозяйской прибыли.
Заплатин промолчал. У него внутри шла такая работа, что он не хотел вступать в разговор с Пятовым до той минуты, когда придет его черед.
— Ах, Заплатин! Знаете, какое я сделал открытие!
— Как же я могу знать, Пятов?
Тон у Заплатина был уже совершенно товарищеский, особенно в этом обмене фамилий, без имени-отчества.
— А вот какое… Мне попался… у Дациаро — я заехал купить один этюд… заграничный и выбрать несколько фотографий… И вдруг вижу кабинетный портрет молодой женщины — скорее девушки… в бальном, с голыми руками и цветами. И в черных волосах. Оказывается, что я никогда не видал или забыл. Мы еще тогда были с вами в гимназии. Кого?
— Вы мне все загадки задаете.
— Помните, кровавая трагедия, зимой, в окрестностях
Вены… наследник престола… эрцгерцог Рудольф…
— Австрийский?
— Да. И красавица Вечера. Баронесса Вечера — его пассия. Оба покончили с собою. И в ней я нашел поразительное сходство — с кем бы вы думали? С
Надеждой Петровной! Уверяю вас! Да вот поглядите.
Пятов побежал к бюро, выдвинул ящик и достал фотографию.
— Я тогда прямо проехал сюда и оставил здесь. Посмотрите, посмотрите!
Он потянул Заплатина за руку и подвел его ближе к окну.
— Разве нет сходства? А? Этот нос? А ресницы? А поворот головы? Ведь и эта баронесса Вечера была, по матери, родом откуда-то из Далмации, кажется, или из Хорватии.
— Что-то действительно есть, — пробормотал Заплатин.
— Как что-то! Все! И контур шеи, падение плеч! Смотрите эту линию. Поразительно! И усмешка рта, такого же пышного!
Губы Пятова слегка даже причмокнули, глаза бегали по фотографии, подергиваясь масляной влагой.