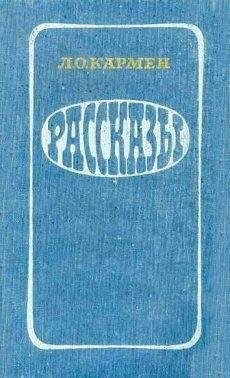– Что тут случилось? Чего плачешь? – спросила она Сеньку.
– О-о-он ме-ме-ня би-ил!..
– Кто?
– Сторож!
Дама повернулась и резко заметила:
– И вечно вы, Константин, скандалы устраиваете! Зачем обижаете мальчика?!
Сторож стал оправдываться:
– Да как же?! Послушали бы, как ругается!
– А по-по-чему ты не пу-пу-скал меня в больницу? – спросил его, не переставая давиться слезами, Сенька.
– Тебе зачем в больницу? – ласково спросила дама и округло провела рукой по его влажной щеке.
– Знакомая тут…
– Врешь! – вмешался сторож. – Воровать пришел.
– Прошу вас молчать! – топнула ногой дама. – Как звать твою знакомую?!
– Ли-и-за.
– А фамилия?
– Сверчкова!
– Идем. – И она пошла вперед к больничному корпусу.
Сеня последовал за нею вприпрыжку, утирая на ходу рукавом слезы и бросая косые сердитые взгляды на сторожа.
Тот погрозил ему пальцем.
Сенька не остался в долгу. Соорудил из промерзших пальцев кукиш и послал ему его вместо воздушного поцелуя.
– Есть у нас больная Лиза Сверчкова? – спросила дама, входя вместе с Сенькой в приемную.
– Сейчас!
Дежурный фельдшер порылся в книге и ответил утвердительно.
– Какая палата?
– Палата для выздоравливающих.
– Мерси!.. Маша, – обратилась теперь дама к сиделке – толстой рябой бабе. – Проведи туда этого малыша!
– Можно, барышня!
– Ну-с, буян! Ступай! Тебя проведут к твоей Лизе!
«Эх! – хотел сказать ей Сеня. – Хорошая вы барышня, за вас я бы с полной душой в огонь и в воду!» – да слова не шли из горла. Он ограничился тем, что поблагодарил ее взглядом.
Маша кивнула ему головой, и они пошли.
Она долго водила его по разным коридорам и широким каменным лестницам и наконец привела в большую, светлую комнату с громадными окнами, чистыми койками и блестящим, как зеркало, полом.
Не успел Сеня оглянуть палату, как услышал знакомый, радостный голос:
– Сенечка!.. Горох!.. Сенюра!.. Марья Ивановна, сестрица!.. Он!.. Муж!
Он бросил быстрый взгляд в ту сторону, откуда донесся близкий ему голос, и увидал свою Лизу. Она полулежала на койке под одеялом, вся в белом и сама белая-белая, без кровинки на лице. Солнце пронизывало острыми лучами ее восковые ушки, похожие на лепестки розы.
Лиза вертелась на постели, как на иголках, и страстно протягивала ему свои тоненькие, высохшие руки. На вид ей было десять лет, но на самом деле двенадцать.
– Скорее! Сюда!.. Иди сюда!.. – молила она.
Около, на стуле, сидела сестрица и улыбалась Сеньке.
Сенька, весь красный, подошел к ней и сунул ей руку, высовывающуюся из короткого отрепанного рукава наподобие мерзлой рыбы. Лиза стремительно схватила ее, поцеловала и прижалась к ней бледной щечкой.
– Здорово! – процедил он, косясь на сестрицу.
– Здорово, здорово! – весело ответила счастливая Лиза.
– Так это он самый? – проговорила сестрица, с любопытством оглядывая его фигуру, которую с успехом можно было уложить в дамский несессер.
Лиза все время, что находилась в больнице, только и говорила о нем, хвалила его, бредила им.
Сенька чувствовал себя неловко в присутствии незнакомой женщины и рад был бы провалиться сквозь землю. Он уставился, как теленок, в землю и засопел и зашмыгал носом.
– Чего не садишься? – спросила, лаская его глазами и не выпуская его руки, Лиза.
– Да куда мне сесть? – проворчал он.
– На постель. Вот сюда, возле меня.
Он сел осторожно, как бы боясь испачкать белоснежную простыню, и снова покосился на сестрицу.
«Скоро, дескать, уйдешь?»
А та и не думала уходить. Ее интересовала встреча детей, и ей хотелось послушать их беседу. Но вдруг, к великому удовольствию обоих, ее позвали, и она ушла.
– Кто она? – спросил недовольно Сенька.
– Сестрица, – ответила Лиза.
– Чья?
– Всех! Она со всеми как сестрица… Ухаживает…
– Дрянь она!
– Что ты, Сенечка?! Как можно?! Она такая добрая, славная!
Сенька ничего на это не ответил, повернулся к ней всем лицом, посмотрел на нее внимательно и усмехнулся.
– Что ты?
– Совсем на ежика похожей стала… И куда коса твоя делась?
– Остригли, – ответила она плаксиво.
– А ты чего далась, дура?!
– Насильно остригли. На испуг взяли, сказали, что, если не дамся, в погреб запрут. Я плакала, ругалась. Ничего не помогло.
Сенька покраснел, сжал кулаки и проговорил с озлоблением:
– Ну и народ здесь! Шмырник у вас, телеграфный столб ему с паклей и гаком в зубы, не хотел пустить. Бить стал… Эх, попадется когда-нибудь мне в карантине! Полжизни отниму у него!.. Чаю дают тебе? – спросил он, немного успокоившись.
– Дают.
– А кардиф (хлеб)?
– Тоже. Все дают. И бульон, и молоко, и компот.
– Ври!
– Ей-богу! Вот крест! – И она перекрестила свою плоскую, как дощечка, грудь.
Но Сеня и теперь не поверил ей. Как истый сын порта, он ненавидел больницу, смотрел на нее как на застенок и был уверен, что здесь морят голодом.
– А здорово ты поддалась, – проговорил он немного погодя не то с сожалением, не то с желанием кольнуть ее. – Бароха была первый сорт, девяносто шестой пробы, хоть в цирке показывай, а теперь смотри – ни тебе мяса, ни тебе фасона. Нос как у тебя вытянулся! Как у петрушки! На кого ты похожа?! Холера!..
– А я виноватая?
В правом глазу у нее показалась слезинка.
– Скучно тебе, должно быть, с этими жлобами. – И он указал на соседей-больных.
Часть больных лежала на койках, часть расхаживала по палате.
– Очень даже, Сенечка. Все кряхтят, охают.
– Дармоеды!.. Послать бы их в трюм или в котлы поработать! А хорошо бы теперь, Лизка, посидеть в «Испании» под машиной и «Устю» послушать? – проговорил он мечтательно. – Ты как думаешь?
– Хорошо!
Глаза ее заблестели, и на алебастровых впалых щечках выступили розовые пятна.
– А когда ты выхильчаешься отсюда?
– Я хотела давно уже выхильчаться, да не пускают.
– Ах, они с! – выругался Сенька и плюнул в угол. – И как это ты, Лизка, засыпалась?!
– Я не виноватая, – стала оправдываться она. – Помнишь, как у меня голова болела? Я думала, что она лопнет. Я зашла в амбуланц. Доктор тот, хохлатый, с корявым носом, чтобы ему отца и мать не видать, сунул мне под мышку стеклянную такую палочку с цифрами и говорит: «У тебя, голубушка, тиф. Надо в больницу отправить». Я расплакалась: «Не хочу в больницу!» – «Почему? Что такое?» – «Там людей голодом морят и убивают». – «Дурочка ты, дурочка, – стал он мне наливать масло. – Там тебе хорошо будет». – «Не хочу, пустите!» А он взял и позвал дворника. Дворник посадил меня в дрожки и повез в больницу. Так я и засыпалась.
– Надо было с дрожек плейтовать, как все делают.
– Пробовала, да не выгорело…
– Табак дело твое! – решил серьезно Сеня. – Отчего не скажешь, чтобы тебя отпустили?
– Сто раз просила, плакала, да что им! Доктор говорил, что если отпустит сейчас, у меня опять тиф будет… Возвратный…
– Грош цена всем докторам в базарный день. – Он презрительно пожал плечами. – И чего они только, телеграфный столб им, не выдумают?!
Наступило молчание.
Сеня сердитым взглядом окидывал палату, а Лиза смотрела на него с тоской.
– А я тебе, – сказал он небрежно, – всякой дряни принес. Знал, что голодом морят…
Он достал из карманов и положил перед нею на одеяло три мандаринки и две горсти кокосов.
Глаза у Лизы засветились радостью.
– Какой ты славный! – воскликнула она и живо сгребла все обеими руками. – Можно одну мандаринку съесть?
– Мне какое дело? – ответил он равнодушно. – Ешь! Твои ведь!
Она быстро очистила тоненькими, бескровными пальцами мандаринку и с живостью стала есть ее.
– Ах, какая хорошая, скусная! – восклицала она, глотая сладкий сок.
Покончив с мандаринкой, она робко спросила:
– Можно поцеловать тебя, Сенечка? – и прежде чем он ответил, она крепко обхватила его шею и стала целовать.
Больные с удивлением смотрели на них.
– Стой! Да ну тебя к свиньям! – отбивался он. – Не видишь, что смотрят?
– Ты где достал мандаринки? – спросила она потом, обгрызая мягкие, душистые и брызгающие корки.
– Как где? Известное дело! Шли биндюги с ящиками по Таможенной площади, а я как ни подскочу, как ни двину камнем в один ящик – бах, ба-бах! Мандаринки так и посыпались. Я подобрал штук десять и плейта! Биндюжники за мной. Держи, лови!.. А я как же! Дамся им!.. Окорока медвежьего!..
– Ах ты, муженек мой! – проговорила она с замиранием в голосе и тихо и радостно засмеялась. – А что у нас дома слышно?
Домом она называла карантин.
Он безнадежно махнул рукой.
– Саук и декохт[2] такой, что беги!
Она заерзала под одеялом:
– Закурить есть?
Он отрицательно покачал головой.
– Смерть как курить хочется, – протянула она тоскливо. – Две недели табаку не нюхала.
– Купил бы «Ласточку», да последние пять копеек на конку истратил.