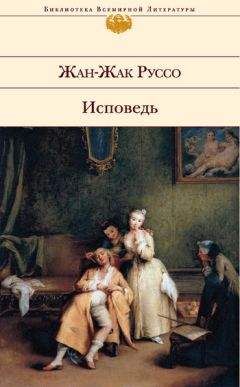Если б я могла пожаловаться, поведать о своих страданиях, излить душу, мне стало бы легче. Но я должна подавлять каждый свой вздох — и лишь иногда я вздыхаю украдкой, припав к груди сестрицы. Надобно сдерживать слезы, надобно улыбаться, хоть я и чувствую, что умираю.
Sentirsi, oh Dei, morir;
E non poter mai dir:
Morir mi sento![39]
И что хуже всего, огорчения эти углубляют тяжкое мое горе, и чем больше печалят меня воспоминания о тебе, тем приятнее вызывать их в своей душе. Скажи мне, друг мой, любимый друг, понимаешь ли ты, какую нежность пробуждает в сердце тоска и какую силу придает любви печаль?
Много всего мне хотелось поведать вам, но, не говоря о том, что лучше повременить, пока я не буду с точностью знать, где вы сейчас находитесь, я просто не могу продолжать письмо — в таком смятении моя душа. До свиданья, друг мой! Кончаю письмо, но знайте — не кончаю думать о вас.
ЗАПИСКА
Посылаю с незнакомым лодочником эту записку по обычному адресу, дабы сообщить, что я решил обосноваться на противоположном берегу, в Мейери[40]: буду тешить себя хоть видом тех мест, приблизиться к которым не смею.
ПИСЬМО XXVI К Юлии
Как изменилось мое положение за несколько дней! Я ближе к вам, но какая горечь примешивается к радости! Печальные размышления осаждают меня! Я предвижу столько опасных препятствий! О Юлия! что за роковой дар неба — чувствительная душа! Того, кто обладает этим даром, ждут на земле одни лишь скорби и печали. Он — жалкая игрушка погоды и времен года; солнце или туман, хмурое или ясное небо управляют его судьбою, и по воле ветров он либо доволен, либо удручен. Он — жертва предрассудков, и бессмысленные правила возводят непреодолимую преграду для справедливых стремлений его сердца. Люди покарают его за независимость взглядов, за то, что судит он обо всем по совести, пренебрегает условностями. Таким образом, он сам навлечет на себя несчастия, забывая о благоразумии и поддаваясь божественной прелести всего, что благородно и прекрасно, меж тем как тяжкие цепи необходимости привязывают его ко всему низменному. Он будет искать высшего блаженства, забыв, что он человек; его сердце и разум будут находиться в непрестанной борьбе, а желания, не знающие границ, уготовят ему лишь вечную неудовлетворенность.
Вот в какое тягостное положение ввергли меня судьба, угнетающая меня, и чувства, меня возвышающие, и твой отец, презирающий меня, и ты сама — радость и мучение моей жизни. Не будь тебя, о моя роковая любовь, мне никогда не довелось бы ощутить, как нестерпимо противоречие между возвышенным духом и низким общественным положением. Ведь я бы и жил спокойно, и умер бы довольным, даже не задумавшись над тем, какое же общественное положение я занимал на этом свете. Но видеть тебя — и не иметь права обладать тобой, обожествлять тебя — и быть самому только человеком! Быть любимым — и не иметь права на счастье! Жить в одном краю с тобой — и не иметь права жить вместе! О Юлия, я не могу от тебя отказаться! О судьба моя, в которой я не властен, какую ужасную внутреннюю борьбу ты разожгла во мне, а ведь мне никогда не преодолеть ни своих желаний, ни своего бессилия!
Какое странное и непостижимое явление — с тех пор как я поселился поблизости от вас, голова моя полна одних лишь сумрачных мыслей. Быть может, само место навевает тоску. Унылое, мрачное место; зато оно лучше всего подходит к моему душевному состоянию, да я, пожалуй, и не снес бы жизни в местах менее мрачных. Голые утесы тянутся чередой по берегу и окружают мое убежище, такое неуютное в зимнее время. Ах, моя Юлия! К чему мне иные места, к чему иное время года, если мне суждено отказаться от вас!
Какое-то неистовое волнение гонит меня с места на место. Я все куда-то спешу, без устали лазаю по горам, взбираюсь на скалы, быстрым шагом хожу по окрестностям. Но суровый ландшафт повсюду лишь вторит моей безысходной тоске. Уже нигде не видно зелени, трава пожелтела и поблекла, листья с деревьев облетели, под порывами ветра с востока и студеным северным ветром растут сугробы снега и горы льда; вся природа мертва вокруг меня, как мертва надежда в глубине моего сердца.
Здесь, на берегу, среди скал, я нашел уединенный уголок — небольшую площадку, откуда открывается вид на весь благословенный городок, в котором вы живете. Судите сами, с какой жадностью взоры мои устремляются к милым сердцу пределам. В первый день я долго старался отыскать ваш дом; но он терялся вдали, все усилия мои были тщетны — воображение вводило в обман мои усталые глаза. Я побежал к священнику, попросил зрительную трубу и с ее помощью увидел — а вернее, уверил себя, будто вижу, — ваш дом. И с той поры я провожу целые дни в укромном уголке, созерцая благословенные стены, за которыми скрывается источник моей жизни. Невзирая на непогоду, я отправляюсь туда поутру и возвращаюсь лишь к ночи. Костер из сухих листьев и валежника да быстрая ходьба оберегают меня от лютой стужи. Я так пристрастился к дикому уголку, что приношу сюда чернильницу и бумагу, и вот сейчас пишу вам письмо на камне, отколотом глыбою льда от соседней скалы.
Здесь-то, моя Юлия, твой несчастный друг вкушает, быть может, последние радости, которые суждены ему в этом мире. Он решается тайно проникнуть в твою опочивальню сквозь толщу воздуха и стены. Твои пленительные черты вновь приводят его в изумление, нежные взгляды вдыхают жизнь в его истомленное сердце; он слышит звуки твоего милого голоса; он дерзает вновь заключить тебя в объятия и вкусить то восхитительное упоение, какое вкусил тогда в роще. Пустой бред взволнованной души, обезумевшей от страсти! Тут я заставляю себя опомниться и стараюсь просто вообразить себе твою невинную жизнь. Издали слежу я за тем, как ты проводишь день в разнообразных занятиях, — ведь когда-то мне посчастливилось быть их свидетелем, — я вижу тебя поглощенной заботами, и мое уважение к тебе растет, а твоя неисчерпаемая доброта умиляет и восхищает мое сердце. Сейчас, говорю я себе поутру, она встает от безмятежного сна, личико ее свежо, как роза, душа ее полна тихою радостью, она посвящает творцу день, который не будет потерян для добродетели. Вот она в опочивальне матери; одаривает родителей всей нежностью своего сердца; помогает им в домоводстве; быть может, утешает нерадивого слугу, тайком увещевает его, а может быть, и заступается за провинившегося. А вот она усердно занимается рукоделием; она украшает свой ум полезными знаниями, обогащает изысканный вкус, наслаждаясь изящными искусствами, и танцами развивает свою природную грацию. А то я вижу простой и красивый убор на прелестной головке, хотя, впрочем, он ей совсем и ненадобен. То я вижу отселе, как моя Юлия советуется с почтенным пастором, желая помочь неимущей семье, стыдливо сносящей бедность. То приходит с помощью или утешением к горькой вдове или позабытой всеми сиротке. То умными и скромными речами она очаровывает благородное общество; то, веселясь в кругу подруг, возвращает безрассудную младость на стезю благоразумия и добрых нравов. Порою… Ах, только не сердись! Порою я осмеливаюсь себе представить, что ты думаешь обо мне. Вижу, как твой потеплевший взор пробегает по одному из моих писем; вижу по ласковым и томным глазам твоим, что ты выводишь строки, предназначенные для твоего счастливого друга, с сердечным волнением рассказываешь о нем сестрице. О Юлия, Юлия! Ужели союз наш невозможен! Ужели наша жизнь потечет врозь и нам суждена вечная разлука? Нет, пусть эта страшная мысль никогда и не приходит мне в голову! Во мгновение ока умиление мое превращается в ярость. Я в неистовстве бегаю из пещеры в пещеру; невольно из груди моей вырываются стоны и вопли. Я рычу, как рассвирепевшая львица. Я способен на все, кроме одного: я не в силах отказаться от тебя. И чего бы только не сделал я, да, чего бы не сделал, только бы обладать тобою или же умереть!
Этими словами я закончил письмо и ждал только надежной оказии, как вдруг получил из Сиона новое письмо от вас. Оно дышит печалью, укрощающей мою печаль! Поразительный пример того, о чем вы говорили, — союза наших душ на расстоянии! Признаю, ваша тоска терпеливее, моя — неистовей, но ведь одно и то же чувство и должно принимать окраску сообразно характеру человека, и ведь тот, кто больше теряет, тот и страдает больше. Но что я говорю — теряет! Да разве допустима такая утрата! Пойми же наконец, Юлия моя, мы предназначены друг для друга, — это непреложная воля неба, высший закон, которому мы должны повиноваться; ведь вся цель жизни — соединиться с тем, кто сделает ее для нас отрадной. Я вижу, с горечью вижу, как ты заблуждаешься, строя неосуществимые планы, — надеясь уничтожить непреодолимые преграды, ты пренебрегаешь единственной возможностью достигнуть цели; в пылу благородной восторженности ты делаешься безрассудной; твоя добродетель становится просто-напросто сумасбродством.