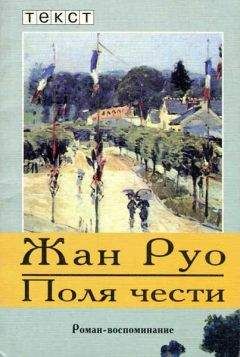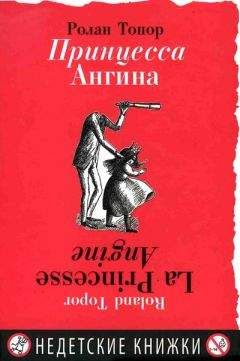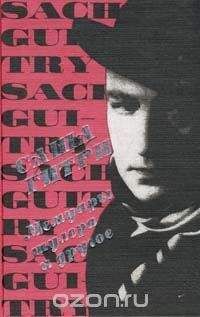А вот что рассказал мне Нобле.
Во время кратких гастролей в Брюсселе ему предстояло сыграть вместе с ней роль Дюпюи в «Маленькой маркизе». На первой же репетиции Селина Шомон заявила: «Учтите, на ваш длинный монолог в первом акте у меня заготовлена парочка десятков разных эффектных штучек. Так что вы уж не удивляйтесь». — «Что значит, у вас... — изумился Нобле, — ведь это же мой монолог, а не ваш, разве нет?» — «Само собой. Просто пока вы будете говорить, я буду кое-что изображать!»
И это была истинная правда. В течение всей его тирады Селина Шомон вызывала непрерывный смех своими ужимками, улыбочками и вздохами.
Следует ли к этому добавить, как ненавидели, как третировали её из-за этого иные товарищи по ремеслу — но как обожали другие!
Репетиции начинались ежедневно в четверть второго и продолжались полчаса. Так, во всяком случае, значилось в театральном журнале, ибо точно в назначенный час являлись одни статисты. Актёры же не спеша подходили один за другим, отец ни разу не показался раньше половины третьего, Эдмон Ростан объявлялся в три, а где-то без десяти четыре торжественно появлялась Её величество мадам Сара Бернар! Все тут же вставали, обнажали головы и по очереди подходили приложиться к ручке. А поскольку на сцене к тому времени собиралось не меньше шестидесяти человек, то церемония длилась добрых полчаса. Сразу же после церемонии приложения к ручке мадам Сара Бернар удалялась в свою артистическую уборную переодеться, ведь чтобы чувствовать себя непринуждённей, она репетировала «Орлёнка» не иначе как в костюме Лорензаччо[3]. Как только она была готова, приступали к репетиции. Однако в пять она прерывалась: это был час «чашечки чая мадам Сары». И вся труппа терпеливо, с нежностью и почтением наблюдала, как она пьёт свой чай. Всё, что бы ни делала эта женщина, было божественно, и все окружающие считали совершенно естественным, что она не совершала ничего, кроме божественных поступков.
И вот вам заодно объяснение, почему репетиции «Орлёнка» растянулись на целых пять или шесть месяцев!
Многие недели в акте Ваграма, когда мой отец-Фламбо говорил ей:
— …Уже к востоку небо засветлело!
Мадам Сара-Орлёнок отвечала:
— Ну что ж, пора за гривой мчаться! Aléa jacta est!
В один прекрасный день она задумалась, что же на самом деле означают слова: «…пора за гривой мчаться...» Ей казалось, это какая-то аллегория, может, имелся в виду хвост кометы, что ли. Но она хотела докопаться до истины и задала вопрос Эдмону Ростану.
— Да нет же, мадам. Это дословно означает ровно то, что написано. Вы стоите подле своей лошади и хватаете её за гриву, готовясь вскочить в седло...
— Какую лошадь? Выходит, у меня есть лошадь?
— Само собой, мадам. Вы собираетесь во Францию. Не можете же вы отправиться туда пешком!
Тогда она обращается к своему администратору и велит к завтрашнему дню привести ей лошадь.
На другой день на сцене появляется требуемое животное. Им оказывается здоровенный резвый гнедой жеребец, которого приводит под уздцы один из тех коротышек-конюхов, которые похожи друг на друга как две капли воды и которых можно узнать, даже если они никого не держат под уздцы. Их без труда отличишь по кривым ногам колесом, будто между ними всегда готово место для лошади. А ещё их легко узнать по глазам. У всех, кто ухаживает за лошадьми, всегда во взгляде сквозит нечто ангельское.
Мадам Сара Бернар издали оглядела коня, как изучают взором врага. Потом отважно направилась к нему. Я хочу сказать, она явно боялась до ужаса и всячески старалась — впрочем, тщетно — скрыть свой страх. Когда она уже была в метре от «самого благородного завоевания, которое когда-либо сделал человек», означенное завоевание, возможно, желая засвидетельствовать своё почтение, весьма сильно ударило о пол копытом. Мадам Сара мгновенно отпрянула назад со словами:
— Немедленно уберите отсюда эту лошадь, она коварная и ужасно злобная! Я не хочу её больше видеть никогда, никогда, никогда!!
И добавила:
— Отыщите мне другую, неважно какой масти, неважно какого возраста, только хочу, чтобы это была самая кроткая лошадь, какая только существует на этом свете.
Два дня спустя конюх вернулся с другой лошадью. Она была толстой, она была серой, она была огромной — и голова у неё была обмотана какими-то старыми шерстяными штанами. Почему? Это мы узнаем позже. Конюх снял с неё эти кальсоны, обнажив, если можно так сказать, лицо, выражавшее немыслимую кротость, граничащую с идиотизмом. Мадам Сара поднялась с места и сделала два осторожных шага к животному.
— Хоть уж этот-то по крайней мере кроткий?
— О, мадам! Дайте ему руку, сами увидите.
— Свою руку?.. Да ни за что на свете. Хотя, пожалуй, попробую... Только вы уж держите его покрепче.
И глядя ему прямо в морду, произнесла:
— Эй, ау-у!..
Возможно, лошадь была несколько удивлена, однако виду не подала.
— Сейчас мы проведём ещё одно испытание. Принесите-ка мне гром.
Ей принесли лист железа, каким пользуются в театрах, когда изображают грозу. И она приказала двоим мужчинам трясти его с такой силой, с какой только смогут. Гром получился оглушительный, но лошадь и ухом не повела. Тогда у просветлённой, успокоенной, почти счастливой мадам Сары возникла идея. Протянув правую руку Ростану, а левую отцу, она предложила:
— Давайте все возьмемся за руки!
И мы все послушно протянули друг другу руки, будто готовясь встать в круг. Однако она заставила всех нас попятиться вглубь сцены и там вполголоса, чтобы лошадь не услышала, проговорила:
— Сейчас мы все вместе побежим прямо на неё с криком: «Да здравствует Император!..» Внимание... раз, два три!..
И все мы, увлекаемые ею, разом бросились к этой бедной лошадке, крича во всё горло: «Да здравствует Император!»
Тут произошла одна вещь, которая весьма трудно поддаётся описанию. Вы уж помогите мне. Догадайтесь сами. Представьте себе, что может сделать испуганное животное, не владеющее членораздельной речью. Оно может лишь издать какой-то звук, не так ли? Ну, вот вы и угадали. Именно это самое она и сделала. Издала звук. Некий звук, похожий на гулкое, хоть и запоздалое эхо недавнего громыхания. Этот непроизвольный, вульгарный звук никак не мог отражать республиканских симпатий животного, тем не менее мадам Сара Бернар была явно не на шутку шокирована.
— Ладно, мы оставляем эту лошадь, — проговорила она, ― потому что она не злобная... хоть и настоящая свинья !
Потом, обернувшись к Эдмону Ростану, добавила тоном, будто ей было пятнадцать, а ему лет девять:
— Ну вот, теперь у вас есть лошадка, довольны?
На что тот смущённо ответил:
— Да, но дело в том, что... короче, мадам, мне нужна пара!
— Пара чего?
— Пара лошадей.
— А с чего это вам понадобилась пара лошадей?
— Потому что нужна ещё одна для Гитри... ведь Фламбо уезжает вместе с вами.
— Две лошади?!
В первый момент ей подумалось, что он слегка перегибает палку, но она тут же поспешила добавить:
— Ладно, ладно, будь по-вашему.
Явно она решила ни в чем ему не отказывать! И, обратившись к конюшему, изрекла:
— Мы оставляем эту лошадь. Потрудитесь непременно привести её завтра сюда, и найдите ещё одну... но такую же кроткую, как и эта.
— Слушаюсь, — был ответ конюха, — стало быть, приведу двух других.
— Да нет же, — возразила она. — Не двух других. Вы снова приведёте вот эту... и найдете ещё одну.
— Нет, мадам, придётся уж мне привести двух других.
— Но почему? Почему?! По-че-му?!
Она уже начала выходить из себя и, пока он обматывал своими шерстяными кальсонами голову лошади, буквально осыпала его этими «почему?», как осыпают тумаками.
— Но почему? Почему? Почему?!
Тогда он пояснил:
— Да потому, мадам, сейчас скажу... лошадь эта, она ничего не боится... кроме других лошадей... вот чтобы она не видела их по дороге я и заматываю ей штанами голову...
Тут мадам Сара Бернар приняла решение, что в акте Ваграма придётся обойтись без всяких лошадей.
И каждый вечер из семисот или восьмисот триумфальных спектаклей мадам Сара Бернар произносила, простирая руки к небесам, слова:
― Что ж, пора за гриву ухватиться! Aléa jacta est!
Помню, как-то вечером я сидел в отцовской артистической уборной в театре «Ренессанс», болтая с его администратором Полем Мюссе, мужем Селины Шомон и бывшим директором «Пале-Рояль», когда вдруг в комнате появилась дама. Ещё молодая, но волосы с проседью, широко распахнутые бледно-голубые глаза на скорбном, хоть и улыбающемся личике, она семенила маленькими шажками, обеими руками держась за талию молодой женщины, которая таким манером направляла её движения и служила ей глазами.