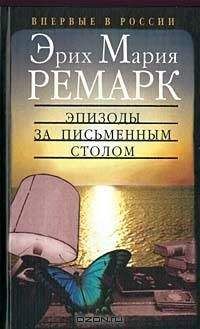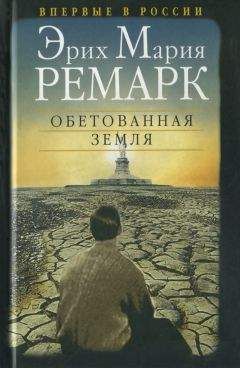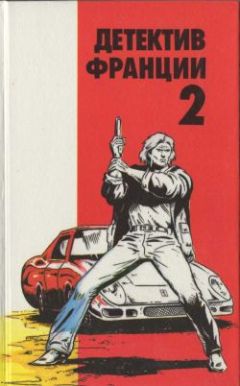этого сильнее? Почему я не разбил проклятую стеклянную стену между собой и своим чувством? Уж если мой приезд был бессмысленным, то это становилось еще бессмысленнее. Если мне повезет и я вернусь обратно, я должен захватить от Елены с собой — туда, в серую пустоту, — что-то большее, чем нелепые воспоминания об осторожности и неясном соединении в полусне. Я хотел Елену бодрствующую, ясную, со всеми ее чувствами, глазами, мыслями — всю — а не так, как слепое животное, на рассвете, после долгого сна.
Она защищалась. Она шептала, что Георг может вернуться. Может быть, она в самом деле опасалась этого. Но я слишком часто переживал опасность и умел забывать о ней, как только она проходила. Сейчас, в комнате, наполненной запахом платьев и духов Елены, с кроватью, затянутой сумерками, мне нужно было только одно: обладать ею всем своим существом, всем, что во мне есть.
В эту минуту единственное, что наполняло меня глухой болью разлуки, — было сознание невозможности обладать ею полнее и глубже того, чем это дано человеку. Я бы хотел осязать ее тысячами рук и уст, я бы окружил ее собою, будто скорлупой, чтобы чувствовать ее всю вплотную, кожа к коже, любя и наслаждаясь и все же тоскуя древней тоской, — что это только кожа и кожа, а не кровь, только соединение, а не слияние.
Я слушал Шварца, не прерывая. Он говорил, обращаясь ко мне, но я понимал, что я для него всего лишь стена, от которой иногда отлетает эхо. Я и сам старался смотреть на себя, как на стену, иначе я не смог бы внимать ему без смущения, а он не смог бы рассказывать о том, что он в последний раз еще вызывал из темноты, прежде чем оно исчезнет в беззвучно пересыпающемся песке воспоминаний.
Я был чужой, человек, чей путь случайно, всего на одну ночь, пересекся с его путем. Он не чувствовал передо мной никакого стеснения. Он был закутан в анонимный плащ далекого, умершего Шварца. Сбросив этот плащ, он сбросил бы тем самым и принятое на себя «я» и мгновенно затерялся бы в безымянной толпе, бредущей к черним воротам на последней границе, где не требуют никаких бумаг и откуда никого не высылают обратно.
Кельнер подошел и сказал, что, кроме английских дипломатов, в ресторане появился немецкий. Он показал его нам. Посланец Гитлера сидел через пять столиков от нас. С ним были еще трое, в том числе две женщины. Дамы выглядели упитанными и здоровыми. На них были шелковые платья резких цветов. Человек, на которого указал кельнер, сидел к нам спиной, что меня вполне устраивало и успокаивало.
— Я подумал, что это вам будет интересно, — сказал кельнер. — Ведь вы тоже говорите по-немецки.
Шварц и я невольно обменялись эмигрантским взглядом: при этом — после короткого взмаха век — глаза равнодушно отводят в сторону, будто вас ничто на свете не интересует. Эмигрантский взгляд — это совсем другое, чем, скажем, немецкий взгляд эпохи Гитлера — боязливое озирание по сторонам прежде, чем сказать что-нибудь шепотом, по Секрету. Обе эти разновидности, однако, принадлежат нашей эпохе.
Шварц безучастно посмотрел на кельнера.
— Мы его знаем, — сказал он. — Принесите нам лучше еще вина.
— Елена отправилась к своей подруге, чтобы попросить у нее машину, — спокойно продолжал он. — Я остался в квартире один. Был вечер, окна были открытыми. Я выключил свет во всех комнатах, чтобы никто не мог меня заметить снаружи. Если бы кто-нибудь позвонил, я не должен был отвечать. В случае появления Георга я мог ускользнуть через кухню. Прошло полчаса. Я сидел возле окна и прислушивался к уличному шуму. Постепенно во мне начало расти чувство утраты. Оно было похоже на сумерки, которые ползли дальше и дальше, затопляя и опустошая все вокруг, стирая и затушевывая горизонт. На чашах призрачных весов покачивались друг против друга прошлое и будущее. В обеих была зияющая пустота. Посредине стояла Елена, и коромысло весов покоилось у нее на плечах. И она тоже, я чувствовал это, покидала меня.
Мне казалось, что я нахожусь в середине жизни. Достаточно сделать шаг — и весы качнутся, и чаша будущего начнет опускаться, наполняясь серой тьмой, и утраченное равновесие не вернется уже больше никогда.
Меня пробудил шум подъехавшего автомобиля. В свете уличного фонаря я увидел, как Елена вышла из машины и исчезла в подъезде. Я пересек темное, мертвое жилище и услышал звук поворачивающегося в замке ключа. Она быстро переступила порог.
— Едем, — сказала она. — Тебе надо обратно в Мюнстер?
— Я оставил там чемодан. И прописался под фамилией Шварца. Куда же мне еще деваться?
— Расплатись в отеле и перейди в другой.
— В какой?
— Да, в какой? — Елена задумалась. — Конечно, опять в Мюнстере, — сказала она наконец. — Ты прав. Куда же еще? Это ближе всего.
Некоторые необходимые вещи я уложил в чемодан. Мы решили, что мне не следует садиться в машину у дома. Лучше сделать это чуть дальше, на Гитлерплац. Елена сама вынесет чемодан.
Я незаметно вышел на улицу. Навстречу дул теплый ветер. Листва деревьев шумела в темноте. Елена догнала меня на площади.
— Садись, — прошептала она. — Быстрее!
Это была закрытая машина типа «кабриолет». Лицо Елены было слабо освещено мерцающими приборами на доске управления. Глаза ее блестели.
— Я должна вести машину очень осторожно, — сказала она. — Малейшее недоразумение, и в дело вмешается полиция. Как раз этого нам только и недоставало.
Я ничего не ответил. О таких вещах лучше не говорить, иначе они обязательно случаются. Елена рассмеялась и направила машину вдоль городского вала. В ней пенилась лихорадочная энергия, словно это было лишь интересным приключением. Она все время разговаривала, обращаясь то к себе, то к машине, когда мы обгоняли кого-нибудь или уступали дорогу. Если приходилось тормозить возле полицейских, управлявших движением, она принималась шептать заклинания; когда ее задерживал красный свет на перекрестках, она подгоняла его:
— Ну же, исчезни! Давай, зеленый!
Я прямо-таки не знал, что подумать. Для меня это был наш последний час. Я еще не догадывался тогда, какое решение она приняла.
Наконец мы выехали из города, и она немного успокоилась.
— Когда ты хочешь уехать из Мюнстера? — спросила она.
Я не знал этого потому, что у меня не было никакой определенной цели. Я знал только, что долго там оставаться нельзя. Судьба спускает дураку только до поры до времени. Затем следует предупреждение. Тому, кто не внемлет, она наносит удар. Иногда можно почувствовать заранее,