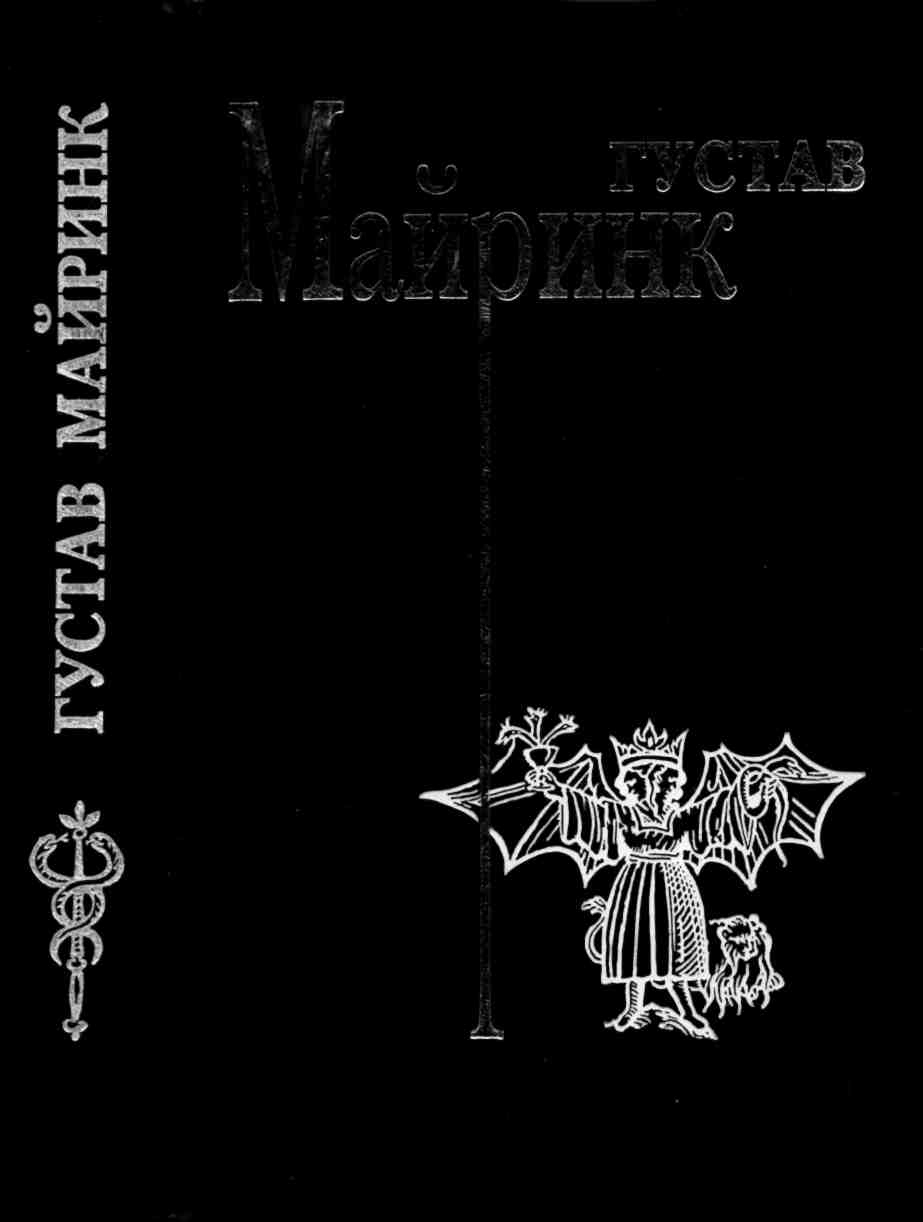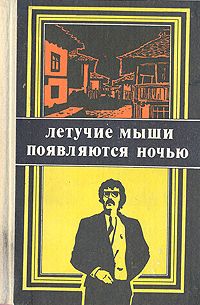ботаника, лежащий на подоконнике. Я хотел было вскочить, чтобы помочь ему...
Но тут кто-то вскрикнул — по-моему, это был Джованни Браческо, — и я невольно обернулся к столу...
Под булавкой Эскуида иссохшая, покоробившаяся от времени пергаментная оболочка глобуса отстала — так лопается кожица у перезрелого плода, — ботаник смутился, хотел исправить свою оплошность, но заусеница пошла дальше и вот уже сами собой один за другим стали отслаиваться, отшелушиваться, линять океаны и континенты, горные массивы и моря, равнины и реки, пустыни и озера...
Нашим глазам открылся стеклянный сверкающий шар.
В центре, вплавленная каким-то неизвестным способом, висела фигурка кардинала! Это была абсолютно точная, уменьшенная копия человека, выполненная с потрясающим мастерством вплоть до мельчайших деталей: мантия, шапочка на макушке,
в миниатюрной ручке — какой-то странный, горящий синими язычками пламени пятисвечник, оказавшийся, когда мы присмотрелись, священным аконитом ордена, на пяти стеблях которого зловеще подрагивали крошечные капуцины цветов...
Парализованный ужасом, я едва сумел перевести взгляд на Радшпиллера...
Мертвенно-бледный, неестественно прямой и неподвижный, как статуэтка в стеклянном шаре, и, так же как она, сжимая в руке пятисвечник синего аконита, стоял он лицом к лицу со своим маленьким двойником в кардинальской мантии.
Черты его лица застыли в маске смерти, лишь в глазах горел мрачный, неистребимый огонь... И тогда мы поняли, что на сей раз леса лопнула, и мятежный дух Иеронима Радшпиллера навечно канул в ночную бездну безумия...
На следующее утро мы — Эскуид, мистер Финч, Джованни Браческо и я расстались. Молча, едва кивнув друг другу на прощанье... Наверное, нам было не до светских приличий, а скорее всего просто никто не хотел говорить о пережитом потрясении, рубец от которого, видимо, на всю жизнь остался в памяти каждого из нас.
Долго еще потом я бессмысленно и одиноко скитался по земному шару, но никогда больше не встретился мне ни один из нашей тогдашней компании. Как-то, по прошествии многих лет, судьба занесла меня в те самые места... И хотя развалины замка еще сохранились, но было очевидно, что они медленно и неуклонно — пока на человеческий рост — погружаются в необозримое море, отливающее в свирепом солнечном пекле стальной синевой Aconitum napellus.
Из записок неизвестного
Сначала о себе, хотя тут и рассказывать-то почти нечего. Большую часть своей жизни — с двадцати пяти до шестидесяти — служил в камердинерах у графа дю Шазаля. А прежде обретался при монастыре в Апануе, помогал садовнику разводить цветы, там, за монастырскими стенами, и прошли лучшие годы моей юности, в их унылой однообразной череде единственным
светлым пятном были уроки чтения и письма, кои по великой доброте своей давал мне отец настоятель.
Я ведь найденыш и даже своего настоящего имени не знаю, но после конфирмации меня усыновил мой крестный — старый монастырский садовник, — и с тех пор имя Майринк стало по праву моим.
Сколько себя помню, голова моя всегда была стиснута каким-то невидимым обручем, который, подобно ошейнику, навеки сковал мое сознание, задушив в своих железных тисках что-то очень важное, бесконечно драгоценное — то, без чего жизнь человеческая превращается в каторгу. Это тонкое, сокровенное чувство — его еще называют фантазией — и поныне пребывает у меня в зачаточном состоянии и уж, видно, никогда не суждено ему расправить свои крылья... Словно стремясь возместить мою внутреннюю духовную ущербность, природа одарила меня чрезвычайно развитыми внешними органами чувств: мой слух и зрение остры, как у дикаря. Когда мои веки смыкаются, то передо мной и сегодня возникают черные неподвижные силуэты кипарисов, с поразительной отчетливостью вырисовываются они на фоне потрескавшихся монастырских стен, вижу истертые бесчисленными подошвами кирпичи галерей... Вот они, каждый в отдельности, я их даже сосчитать бы мог... И все же эти образы холодны и немы — они мне ничего не говорят, а ведь воспоминания должны о чем-то говорить, об этом мне не раз приходилось читать в книгах.
Таков уж я, не лучше и не хуже, думаю, глупо о чем-то умалчивать, если хочешь, чтобы тебе верили; а ведь я надеюсь, эти записи дойдут когда-нибудь до людей ученых и не в пример мне образованных, они-то, будь на то их добрая воля, и помогут мне пролить свет на те странные события, которые темной загадочной цепочкой протянулись через всю мою жизнь.
Если же, вопреки моим ожиданиям, рукопись эта попадет на глаза двум друзьям моего второго господина — магистра Петера Вирцига, скончавшегося и погребенного в Вернштейне в год великой войны 1914-го, — докторам Хризофрону Загреусу и Сакробоско Хазельмайеру, по прозвищу «Красный данджур», то пусть сии почтенные и уважаемые господа, прежде чем гневаться, справедливости ради поразмыслят над тем, что отнюдь не легкомысленная болтливость и не тщеславное любопытство подвигли меня предать огласке те факты, о коих они сами вынуждены были молчать всю свою жизнь, ведь человека в моем возрасте — а мне уже семьдесят! — не соблазнишь всякой ребяческой мишурой; так что, надеюсь, господа все же догадаются
поискать иные, более высокого порядка мотивы, принудившие меня пойти на этот крайний шаг — не последнюю роль, очевидно, сыграл мучительный страх: однажды, после того как плоть моя отомрет, превратиться в машину (господа, разумеется, понимают, что я имею в виду).
Итак, начну по порядку.
Первые слова, с которыми обратился ко мне граф дю Шазаль, принимая меня на службу, были:
— Ты уже путался с женщинами?
Когда же я с чистой совестью ответил отрицательно, он был явно удовлетворен.
Сам не знаю почему, но и по сей день слова эти обжигают меня подобно пламени. Через тридцать пять лет тот же самый вопрос слово в слово повторил, принимая меня на службу, мой второй хозяин, магистр Петер Вирциг:
— Ты уже путался с женщинами?
Вот и тогда мой ответ мог быть только отрицательным — сегодня он будет таким же, — однако, ответив графу, я на какое-то мгновение вдруг с ужасом ощутил себя безжизненным механизмом, но никак не живым человеческим существом.
И всякий раз, когда потом я вспоминал это ощущение, в мой мозг закрадывался смутный неопределенный страх; облечь в слова свои тогдашние мысли мне не под силу, хотя... хотя в бытность мою садовником мне приходилось видеть растения, которые, несмотря на обильную поливку и солнечный свет, безнадежно чахли и, сколько за ними ни ухаживали, все равно сохраняли свою восковую желтизну, в таких случаях всегда где-нибудь неподалеку отыскивался ядовитый сумах, опутавший тайно своими