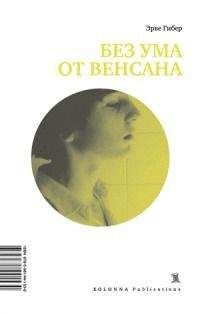она заканчивает фразу, в голове у меня буквально гудит. Гудит – как сирена корабля, который, отдав швартовы, покидает твердую землю. Да, это именно грохот, клянусь. Оглушительный вой. Уж не знаю почему.
Однажды я напишу об отплывающих кораблях и о прощании, которое предшествует выходу в открытое море, напишу историю женщины на причале в порту Ливорно, которая смотрит на уходящие корабли. Я в точности восстановлю в памяти глухой гул сирены, звучавший у меня в ушах в конце лета 1984 года. Гул, который стал стихать лишь понемногу.
А потом все изменилось. То был уже не гул, а физическое ощущение удара, как при столкновении. Я – тот пострадавший, которого санитары вытаскивают из-под груды железа, в спешке грузят на носилки, трясут в скорой помощи, завозят в приемный покой больницы, передают под ответственность дежурного врача, тот самый тяжелораненый, которого срочно оперируют, потому что у него большая потеря крови, переломаны руки и ноги, тяжелые травмы, потом – та спасенная, зашитая, загипсованная жертва катастрофы, что медленно отходит от анестезии, еще под воздействием хлороформа, но уже чувствующая возвращение боли и воспоминания о травме, а потом – потерянный безвольный пациент, утративший энергию, ориентиры, который временами задается вопросом, не лучше ли было ему погибнуть в той переделке, но все же поправляется, потому что ведь часто бывает, что люди поправляются.
Да, именно эта избитая аналогия подходит лучше других.
В начале учебного года, в сентябре, я покидаю Барбезьё. Перебираюсь в пансион при лицее Мишеля Монтеня в Бордо. Поступаю в подготовительные классы при Высшей школе коммерции. Начинаю новую жизнь. Ту, что для меня выбрали. Я оправдываю надежды, которые на меня возлагали, подчиняюсь амбициям, которые в отношении меня испытывали, вступаю на путь, который мне указали. Я возвращаюсь в строй. И зачеркиваю Тома Андриё.
Опять Бордо. Больше двадцати лет пролетело. Город преобразился. Когда мне было двадцать восемь, он был мрачным, стены покрывала копоть. Теперь же город светлый, фасады почистили, всюду охристые тона. Раньше он был закрытый, умирающий. Теперь же город распахнулся, появились молодежные кварталы, к вечеру в нем проступает даже что-то испанское, может, дело в людях на площадях и на террасах кафе, в звоне бокалов и разговорах, которые уносит легкий ветерок, в хорошем настроении. Буржуазия Бордо была стареющей, теперь же вид у нее богемный. Но главное, город вновь обрел свою реку, после того как были отремонтированы и обустроены ее набережные. Раньше по берегам были заброшенные бойни, трава по пояс, колючая проволока, грязь – вы и представить себе не можете. А теперь взгляните, какие элегантные берега, платаны, газоны, зеркальная гладь воды и прямо над ней – трамвай.
Я стал писателем. Я приехал сюда ради обсуждения и автограф-сессии в одном книжном. Говорили о моем последнем романе. Книги стали моей жизнью. Вечером возвращаться в Париж было уже поздно, поездов не было, и мне сняли номер в отеле неподалеку от аллеи Турни. На следующее утро я должен встретиться еще с одной журналисткой и смогу немного погулять по городу, может, как раз поброжу по берегам Гаронны, а потом уж вернусь домой.
Это и было то самое утро. Интервью как раз заканчивается, когда я замечаю тот силуэт, фигуру юноши с чемоданом, обращенную ко мне спиной и двигающуюся к выходу из отеля. Когда я вижу картину, которой не может быть, и выкрикиваю ему вслед имя. Я поспешно вскакиваю, догоняю этого юношу на улице, кладу руку ему на плечо, он оборачивается.
И это почти что он.
Скажем, сходство разительное, и более того. Сходство столь сильное, что по спине у меня пробегает холодок, я вздрагиваю, слегка теряю равновесие, на несколько мгновений, дыхание тоже учащается (да, у этой ситуации есть чисто физические проявления, воздействие на тело, подобно тому как неотвратимая угроза, вызывая панический ужас, приводит к раскоординированности или судорогам).
Черты – схожие, взгляд – тот же, жуткое дело. Жуткое.
Но обнаруживается незначительное различие – не то в общем настроении, не то в улыбке.
И этому крошечному различию удается вернуть меня в область разумного, допустимого.
Придя в себя, я не говорю этому юноше: простите, я ошибся, я принял вас за другого. И не говорю: если бы вы знали, до какой степени вы похожи на человека, с которым я был знаком очень давно. Я говорю: ты – вылитый отец. А он без запинки отвечает: да, мне все время об этом говорят.
А потом мы молчим. Я продолжаю рассматривать его, словно картину. То есть разглядываю детали, неторопливо, веду себя так, будто это не живой человек и будто он в ответ не разглядывает меня. И правда картина.
Мое тело успокаивается.
Юноша, должно быть, смущен тем, как я в него вглядываюсь. Хочет поскорее от меня отделаться. Может, это ему кажется бестактным и невоспитанным. Но нет: он обращает дело в шутку, улыбается. Я был прав: улыбка немного другая.
Я спрашиваю, торопится ли он, или у него найдется время выпить кофе. Точнее, я просто слышу, как произношу эту просьбу, она вылетает у меня сама, необдуманно, не пройдя через фильтр интеллекта, что говорит о мощнейшем желании удержать этого чудесного сына, не дать ему уйти, расспросить подробнее, узнать детали, заполнить пробелы, зияющую пустоту длиной в двадцать три года. У меня просто не было возможности противостоять этому странному желанию – и расшифровать его, испугаться тоже было некогда. Оно уже прорвалось наружу самовольно, и теперь делай с ним что хочешь.
Он говорит, что поезд у него – через час, так что можно немного посидеть. И я тут же осознаю, что парадоксальным образом удивился тому, с какой легкостью он согласился на приглашение незнакомого человека: сам-то я так бы не сделал, я уклонился бы от подобных расспросов и пошел дальше по своим делам, вернулся бы к своему одиночеству.
Он-то, конечно, понял. Он знает, в чем причина моего интереса к нему. Но почему этого оказалось достаточно, чтобы он согласился? Тем более что он и сам сказал: ему часто говорят об этом сходстве, ему могло бы уже надоесть. Но он не выказывает раздражения. Продолжает улыбаться. И сам же объясняет, почему принял мое приглашение. Он говорит: вы так на меня смотрите… наверное, вы сильно его любили.
И мы возвращаемся за столик, где я беседовал с журналисткой. Быстро и резко с ней прощаюсь. И остаюсь наедине с юношей. Я говорю: я даже не знаю,