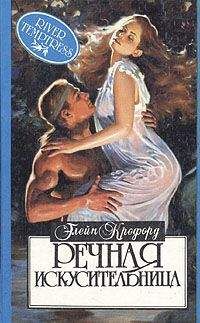Была тут одна замечательная полка, Белоконь собрал в один ряд почти все современные книги на сельскую тему, начиная от «Лаптей» Замойского, шолоховской «Поднятой целины» и панферовских «Брусков» (он держал почему-то у себя только одну, первую книгу романа) до «Деревенских очерков» Ефима Дороша и «Тугого узла» Владимира Тендрякова. В промежутке можно было найти и тоненькую, но полновесную книжицу Овечкина «Районные будни», и достославного «Кавалера золотой звезды», и совсем новую по времени книжку о судьбах земли и живущих на ней хлеборобов – «Хлеб – имя существительное»…
Хозяин возился на кухне, звякал сковородкой, там зашкворчало сквозь шум примуса, а Голубев взял с полки «Поднятую целину» и ушел на диван, чтобы развлечься веселой и невинной болтовней деда Щукаря. Разговорчивый старичок тех давних лет, «натурально пойматый на крючок», мог развеять его тяжелые мысли.
– Вы свинину едите? – спросил Белоконь с кухни.
– Конечно. О холестерине я еще не задумывался… – пробормотал Голубев, не рискуя проявить какую-либо привередливость в положении незваного гостя.
– А то у меня тут жирная колбаса и я думаю – яичницу на скорую руку?
Он вынес в обеих руках тарелки с помидорами и малосольными огурцами, поставил на середину стола, начал резать хлеб. На кухне шумел примус.
– Полка у вас здорово подобрана, – кивнул Голубев на книги. – Подробнейшая хроника времен… Я даже заметил кое-где, что вы их прямо с карандашом читаете.
– Помогает иной раз… – усмехнулся Белоконь. – Толковый народ! Троепольского, к примеру, возьмешь в руки, так вроде бы с коллегой посоветуешься! Притом, они если и не дадут рекомендаций, так хоть вопросы поставят и, заметьте, очень своевременные!
– Ну Овечкин, например, и рекомендации предлагал в свое время, – сказал Голубев.
– Да. У них неплохо развито чувство… как бы это сказать – предвидения, что ли… Мы-то, грешные, в основном материальной базой заняты по горло, а есть ведь и такие ускользающие вещи, как взаимоотношения людей, и не только на производстве… В семье, например.
– И вокруг шифера, – засмеялся Голубев.
– Н-да. И вокруг шифера…
Белоконь вновь удалился на кухню, а Голубев начал листать книгу. Он выискивал по памяти юмористические тирады Щукаря, но болтливый старик никак не попадался ему. Наскоро пробегая мелкую рябь страничек, он попадал то на райкомовские споры, где Давыдов упрекал секретаря в правом уклоне, то на кулацкую пропаганду Якова Лукича Островнова, то на бабьи вопли вокруг избитого председателя. Потом вдруг вчитался надолго – то была безобразная сцена убийства Хопровых – и еще раз оценил страшную беспощадность художника, воочию, до боли в глазах увидя все это в неповторимых деталях: почерневшее от удушья лицо женщины, когда она, приходя в сознание и выталкивая языком мокрый, горячий от слюны кляп, не кричала, а просила только мелким, захлебывающимся шепотом: «Родненькие!.. родненькие, пожалейте! Куманек!.. родимый мой!.. За что?» И в припадке надежды на милость еще целовала руку убийцы своими разорванными, окровавленными губами.
Голубев как бы растворился в жестокой сумятице прошлого, услышав заново покаянное бормотание Андрея Разметнова, лихого рубаки, растерявшегося вдруг в мирной хуторской жизни, услышал гневную отповедь приезжего матроса Давыдова и совершенно уж взбешенный голос краснознаменца Макара: «Гад! Как служишь революции? Жа-ле-ешь? Да я… тысячи станови зараз дедов, детишков, баб… Да скажи мне, что надо их в распыл… Я их из пулемета… всех порежу!»
У Голубева потемнело в глазах, он машинально перелистал еще несколько страниц и, не найдя злополучного Щукаря, во гневе захлопнул книгу. Он будто погрузился в глубокое озеро, в непомерную его глубь и тьму, и откуда-то сверху, с дневной поверхности, донеслись до него приглушенные, до странности неподходящие и почти ненужные, праздные слова Белоконя.
– Что? – близоруко отмаргиваясь, поднял он голову.
– К столу. Прошу двигаться.
– Н-да… Двигаться, – сказал Голубев. – Один старик, сторож ваш, мне сказал нынче: «Все грехи люди, мол, искупили, и утонуть негде…»
Белоконь странно посмотрел на него.
На улице, за распахнутым окном, прошумел ветер, хлопнула створка. Белые занавески в пол-окна вздулись пузырями и заколыхались, открыв на мгновение сгустившуюся тьму южной ночи. По комнате прошел сквозящий холодок.
– К утру, видать, гроза соберется, – сказал Белоконь. Притянул створки и звякнул шпингалетами. Добавил, с озабоченностью в голосе:
– Опять барометр на осадки повернул. Плохо. Уборка завязнет…
Они выпили по рюмке «Столичной», и Голубев спросил, чтобы завязать разговор:
– Так и живете, бобылем, в одиночку? Скучно?..
– Веселого мало, – кивнул хозяин, пододвигая ему тарелки с закусками. – Веселого, конечно, мало… Но так уж оно складывалось, что в пятьдесят лет всю мою жизнь надо заново организовывать Письма от сына получаю – и то радость…
Он тут же налил по второй – рюмки были мелкие, хрустальные, и дозу, по-видимому, стоило повторить, не мешкая, – и начал как-то незаметно, исподволь рассказывать о себе, о прожитом. И Голубев в который уже раз не то что удивился, а просто оценил эту способность хуторян говорить открыто и с готовностью о себе, ничего не скрывая. Им, попросту, нечего было скрывать, не от кого таиться.
История была не столь уж редкая. Война, фронт, длительный перерыв в переписке с женой и потом, перед самым концом войны, запоздалое уведомление ее о разводе, с просьбой не писать больше и не разыскивать ее, потому что нашелся другой, хороший человек…
Нет, в плену он не был, но так уж сложилось, что она долго не получала писем, потеряла надежду, ослабла. А ведь на руках у нее был ребенок…
– Я, конечно, виделся потом и с нею, и с тем, новым человеком, – говорил Белоконь с поразительным равнодушием, с чувством давно отболевшей горечи. – И, в общем, ни в чем не виню. Годы были долгие и страшные, а человек попался ей и в самом деле неплохой, верный, из раненых фронтовиков… Прожил, правда, мало, из-за ранений. Теперь вот с сыном переписка. И все.
– Слушайте, эта женщина… Здесь… Любит вас, по-моему, и любит крепко и надолго… – не очень тактично, но с необидной откровенностью сказал Голубев. Сказал, чтобы облегчить что-то в разговоре и настроении хозяина.
– Ну, это… совсем не то, – поморщился Белоконь. – Для меня во всяком случае.
Он помолчал, лениво ковыряя остывшую глазунью, и вздохнул; и тут началась другая история, и Голубев слушал ее с тем же интересом, потому что Белоконь не умел, да и не хотел кривить душой и что-то скрывать.
– Говоря пошловатым языком, есть у меня давняя связь, любовь, если хотите… Когда работал еще на сортоиспытательной станции, встретил одну молодую женщину. Девочка у нее была уже большая, от какого-то прощелыги. И женщина-то отличнейшая, умница, с такими, знаете, покорными, думающими глазами, и – обиженная, горестная какая-то…
Он вдруг замолчал, поднялся и отошел к окну, чтобы не смотреть на собеседника в эту минуту.
– Ч-черт знает что! – вдруг с гневом выругался он, выпрямившись у черного окна. – Почему это получается сплошь и рядом: на доброе сердце, на отзывчивость, обязательно какой-нибудь коршун налетит, вырвет самое дорогое с мясом, а после… После никакими лекарствами это не залечишь…
Через минуту он уже снова сидел за столом, только желваки ходили под тонкой, обгорелой кожей на скулах. Говорил с гневом:
– Ну, предложил ей замужество. Предложил, зная, что она всей душой согласна, давно ждала этого слова… И – что бы вы думали?
Белоконь взял вилку в кулак, словно бывалый фронтовой разведчик трофейную финку, и торчмя воткнул в стол.
– Так вот – не решилась из-за дочки. Не захотела, как она говорит, травмировать ребенка, хотя в глазах-то у нее было такое отчаяние, что хуже этой травмы и придумать ничего нельзя. «Если можете, говорит, подождем немного, пока Людочка десятый класс кончит и определится. Тогда это для нее будет уже безразлично». Тогда, мол, она станет уже взрослой и извинит ее за этот поздний брак. Понимаете?
Он налил себе водки, выпил с чувством и поставил бутылку перед Голубевым:
– Наливайте сами… Так вот и получилось. Езжу иногда к ним, и Людочка заканчивает в этом году школу, и скрывать нам уже нечего, ночую иногда, а только чувствую, что и после, когда уйдет от нее дочь, вряд ли она поедет сюда со мною, потому что в этом ожидании перегорело что-то, притупилось… Теперь даже этот банальный вопрос – о переезде из города в глухой хуторок, о городской прописке, станет для нее проблемой…
Он глянул исподлобья большими, думающими глазами и договорил с угрюмым равнодушием:
– Понимаете, все должно совершаться в свое время. Это – как в растительной вегетации… Чуть завязалось зерно – полив нужен, уход, подкормка. Иначе оно усохнет, выродится, осыплется не вовремя, и только. Ничего нельзя откладывать на будущее, потому что будущее придет уж для других семян…