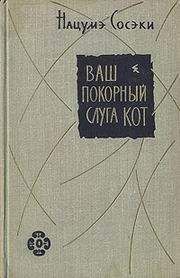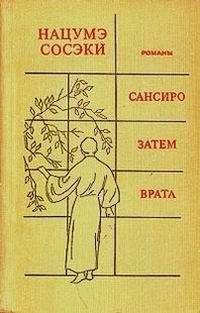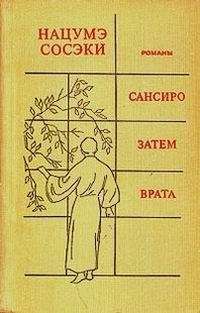— Он так хорошо спит, и окружающие немного отдохнут, — сказала она.
Временами отец открывал глаза и внезапно спрашивал:
— Кто здесь? Что такое? — Эти „кто“ были только те, кто сидел всё это время около него. В сознании отца образовались тёмные и светлые места. И эти светлые места выступали там и сям, подобно белым нитям, вплетённым во мрак. Мать была не совсем не права, принимая предсмертное бессознательное состояние отца за простой сон.
В это время у него стал заплетаться и язык. Часто бывало так, что он начнёт говорить, но конец фразы становится неразборчивым, и понять ничего нельзя. Но взамен этого, если он начинал говорить, то говорил таким громким голосом, что не похож был на смертельно больного. И нам приходилось приближаться к самому его уху и повышать голос больше, чем обыкновенно.
— Приятно, если так охлаждать голову?
— Да.
Помогая сиделке, я сменил у отца водяную подушку и положил ему на голову пузырь со свежим льдом. Пока острые кусочки наколотого льда не уложились удобно в пузырь, я легко придерживал его над самым лбом отца, на его лысине. В этот момент со стороны галлереи вошёл брат и молча протянул мне письмо. Взяв его свободной левой рукой, я удивился.
Письмо было гораздо тяжелее обыкновенного. Оно не было вложено и в обычный конверт. И размеры его были не таковы, чтобы уместиться в обычный конверт. Оно было завернуто в бумагу и по краям аккуратно заклеено. Беря письмо от брата, я сразу же обратил внимание на то, что оно заказное. Перевернув его, я увидел старательно подписанные буквы имени учителя. Мои руки были заняты, и я не мог сейчас же вскрыть письмо, поэтому я сунул его за пазуху.
XVII
В этот день состояние больного казалось особенно тяжёлым. Когда я встал с места, направляясь в клозет, брат, столкнувшийся мной на галлерее, тоном часового спросил меня:
— Куда идёшь? Состояние его немного странное, поэтому лучше по возможности, не отходить от него, — сказал он мне.
Я сам тоже так думал. С письмом за пазухой я опять вернулся в комнату больного. Отец, открыв глаза, спрашивал мать, как зовут стоящих вокруг него людей. Мать называла ему: это такой-то, это такой-то, и отец каждый раз кивал головой. Когда он этого не делал, мать повышала голос и говорила: это такой-то. Ей хотелось убедиться, понял ли он.
— Спасибо вам за всё! — проговорил отец и опять впал в бессознательное состояние.
Все, окружавшие его изголовье, некоторое время молча наблюдали за ним. Но вскоре один из них поднялся и вышел в другую комнату. За ним встал и другой. Третьим поднялся со своего места я и прошёл в свою комнату. Я хотел вскрыть и прочитать письмо, лежавшее у меня за пазухой. Это можно было, конечно, с лёгкостью сделать и у постели больного, но объём письма был настолько велик, что мне не удалось бы прочесть всё письмо сразу. Я собирался урвать для этого специальное время.
Я разорвал конверт из плотной бумаги. Внутри оказалась бумага, употребляемая для рукописей, аккуратно разлинованная вдоль и поперёк. Для того чтобы было удобнее вложить её в конверт, она была сложена вчетверо. Сложив затвердевшую в сгибах европейскую бумагу на обратную сторону, я расправил её, чтобы было удобнее читать. Как самое количество бумаги, так и весь вид письма заставили меня испугаться при мысли о том, что оно должно было мне поведать. В то же время у меня лежало на сердце то, что происходило сейчас там, в комнате больного. Я был уверен, что начну читать письмо и не успею ещё дойти до конца, как с отцом обязательно что-нибудь случится, что, по крайней мере, меня непременно позовут мать или брат, или дядя. Я не мог спокойно приняться за чтение письма. Торопливо и рассеянно пробежал я только одну первую страницу. На ней было написано следующее:
„Когда вы спросили меня о моём прошлом, я не мог, не имел мужества на это ответить. Теперь я верю, приобрёл свободу открыто поведать его вам. Но это та свобода, которая будет потеряна для меня, если я буду ждать вашего приезда в Токио. Следовательно, если я не воспользуюсь этим моментом, пока я ещё могу сделать это, я потеряю навсегда случай изложить вам — в качестве косвенного опыта для вас — своё прошлое. И если так, слова такого твёрдого обещания, которое я вам тогда дал, окажутся совершенной ложью. Поневоле я решил написать вам то, что следовало бы сказать устами“.
Прочитав до этого места, я уже был в состоянии ясно понять, зачем написано такое длинное письмо, ясно понять и его смысл. Я с самого начала был уверен, что учитель не будет беспокоить себя письмом по поводу моего места. Но почему ему, не любившему браться за перо, захотелось изложить мне своё прошлое в таком длинном письме? Почему он не мог дождаться моего приезда в Токио?
„Я приобрёл свободу, поэтому расскажу. Но эта свобода снова на веки будет потеряна для меня“.
Я повторял мысленно эти слова и старался понять их смысл. Вдруг меня обуяла тревога. Я взялся за чтение того, что следовало дальше. И тут как раз из комнаты больного послышался голос брата, громко меня звавшего. В испуге я вскочил с места. Пробежав галлерею, я дошёл до комнаты, где были все остальные. Я был убеждён, что наступил последний момент жизни отца.
XVIII
В комнату больного за это время успел притти доктор. Желая всячески облегчить больного, он как раз ставил больному клизму. Уставшая за прошлую ночь сиделка прилегла в соседней комнате отдохнуть. Непривычный к этому брат был в замешательстве. Увидав меня, он сказал: „Помоги, пожалуйста!“ — и опустился на сиденье. Я стал вместо него подкладывать под отца клеёнку.
Отец стал несколько спокойнее. Доктор, просидев с полчаса у постели, чтобы наблюдать действие клизмы, ушёл, обещав ещё зайти. Уходя, он специально предупредил, чтобы, если что-нибудь случится, его позвали в любой момент.
Я снова собрался уйти из комнаты и приняться за письмо учителя. Но душевное состояние мешало мне сделать это. Не успел я усесться за свой стол, как мне стало казаться, что вот-вот брат опять громким голосом позовёт меня. И если теперь позовёт меня, это будет уже в последний раз, — и страх заставлял дрожать мои руки. Бессмысленно я перелистывал страницы письма учителя. Мои глаза смотрели на знаки, аккуратно вписанные в разграфлённые клетки. Но мне было не до того, чтобы их читать. То, что я случайно прочитывал то там, то здесь, — и то не доходило до сознания. Я перелистал таким образом все страницы по порядку до самого конца и собирался опять сложить всё попрежнему и положить на стол. В этот момент мне вдруг бросилась в глаза одна фраза, уже близко к концу:
„Когда это письмо попадёт в ваши руки, меня уже не будет на свете. Я буду уже мёртв!“
У меня захватило дух. Сердце, до сих пор тревожно волновавшееся, сразу замерло. Я снова стал перелистывать страницы в обратном порядке. И прочитывал так в обратном порядке на каждой странице по строке. В эти мгновения я стремился лишь узнать то, что мне нужно было знать, и я пронизывал глазами разбросанные повсюду знаки. А то, что я хотел знать, было только одно: здоровье учителя. Его прошлое, то покрытое мраком прошлое, которое он обещал мне рассказать, было как таковое мне не нужно. Идя вспять к началу, я перелистал все страницы и кое-как сложил это длинное письмо, не давшее мне пока нужных сведений.
Я опять подошёл к двери комнаты больного, чтобы посмотреть, каково его состояние. Около него всё было тихо и спокойно. Поманив к себе мать, сидевшую около отца с безнадёжным и усталым лицом, я спросил:
— Ну, как?
Мать ответила:
— Как будто немного успокоился.
— Нагнувшись к уху отца, я спросил:
— Ну как? Немножко стало лучше после клизмы?
— Отец кивнул головой. Он отчётливо произнёс:
— Спасибо!
Сознание отца, сверх ожидания, было ясно.
Я снова вышел из комнаты больного и вернулся к себе. Там я взглянул на часы и взял расписание поездов. Вдруг я встал и, затянув кушак, сунул письмо учителя в рукав. Затем через чёрный ход вышел наружу. Не помня себя, я побежал к доктору. Я хотел наверняка узнать у него, продержится ли отец ещё дня два-три. Я хотел попросить его поддержать его подкожными впрыскиваниями, чем угодно. Но, к сожалению, доктора не оказалось дома. У меня не было времени сидеть неподвижно и ожидать его. Моё сердце не успокаивалось. Я немедленно погнал рикшу на станцию.
Прижав к стене станции кусочек бумажки, я написал на нём карандашом письмо матери и брату. Письмо было совсем короткое, но, полагая, что хуже будет бежать, не предупредив, я попросил рикшу спешно доставить его домой. И затем решительно бросился в токиоский поезд. Здесь, в громыхающем вагоне третьего класса, я вытащил из рукава письмо учителя и прочёл его от начала до конца.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ПИСЬМО УЧИТЕЛЯ
I
„Этим летом я получил от вас два или три письма. Я хорошо помню, что во втором или третьем из них заключалась просьба помочь вам, так как вы хотите найти себе в Токио подходящее место. Когда я читал это, мне хотелось что-нибудь сделать. Я думал, что следует, по крайней мере, ответить вам. Но сознаюсь откровенно: я не приложил решительно никаких стараний к исполнению вашего поручения. Как вам хорошо известно, у меня при столь ограниченном круге знакомств, — более того, у меня, живущего на свете совершенно одиноко, нет решительно никакой возможности вам помочь. Но не в этом дело. Откровенно говоря, в это время я мучительно думал, что мне делать с собою самим. Продолжать ли жить так, подобно заброшенному в среду людей чудищу, или же... В такие моменты, когда я повторял в сердце своём эти слова: „или же...“, меня охватывала дрожь, как человека, который, летя со всех ног, достиг края отвесной скалы и внезапно заглянул оттуда в пропасть, где не видно дна. Меня брало малодушие. И я мучился так же, как большинство малодушных людей. К сожалению, можно сказать без преувеличения, что вы для меня почти не существовали. И более: такие вещи, как ваше место, источники средств для вашей жизни, не имели для меня решительно никакого значения. Мне всё это было совершенно безразлично. По этому поводу я не волновался. Сунув ваше письмо в ящичек для писем, я попрежнему оставался со сложенными руками, предаваясь своим думам. Зачем тот, у которого есть дома некоторые средства, так беспокоится и мечется во все стороны: „места, места?“ С таким скорее неприятным ощущением — я всего только мельком подумал о вас, находящемся столь далеко от меня. Я открываю вам всё это в виде извинения, так как мне следовало вам ответить. Я вовсе не играю словами специально ради того, чтобы рассердить вас. Я верю, что моя мысль, когда вы прочтёте последующее, станет вам вполне ясна. Но как бы то ни было, я молчал, когда мне следовало как-нибудь отозваться, и за этот проступок, за своё нерадение я теперь прошу простить меня. Вскоре после этого я послал вам телеграмму. Говоря откровенно, мне хотелось тогда повидаться с вами. И хотелось, как вы сами того желали, поведать вам своё прошлое. Вы телеграфировали в ответ, что в тот момент не можете выехать в Токио, и я с обманутыми надеждами долго смотрел на эту телеграмму. Вам также, видно, одной телеграммы показалось мало, и вы вслед за этим прислали мне длинное письмо, из которого я понял те обстоятельства, которые мешали вам приехать в Токио. Я не мог считать вас невнимательным или упрекнуть вас. Как вы могли бы оставить свой дом, покинуть вашего больного отца? Нет, именно моё поведение, — забывшего, как будто, о том, что дело идёт о жизни и смерти вашего отца, — моё поведение было недопустимым. Но в ту минуту, когда я посылал вам телеграмму, я действительно забыл про вашего отца. Тот самый я, который, когда вы ещё были в Токио, так увещевал вас: „Болезнь тяжёлая, следите за ним хорошенько!“ Да, я человек с такими противоречиями! А может быть, не столько мой мозг, сколько моё прошлое — в результате того гнёта, которым оно давило меня, — превратило меня в человека с противоречиями. В этом пункте я вполне хорошо вижу себя. Вы должны простить меня.