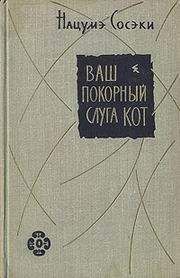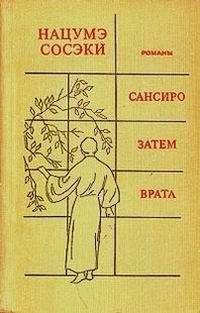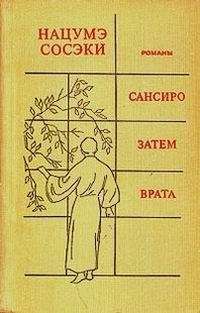Организм матери справлялся с сильным жаром, и дядя, обратившись ко мне, похвалил её со словами:
— Держится крепко!
Однако была ли это последняя воля матери или нет — теперь мне это не ясно. Мать, само собою разумеется, знала, что за страшная болезнь была у отца. Она знала также, что эта болезнь перешла к ней. Но предполагала ли она, что эта болезнь отнимет жизнь и у неё, в этом, я думаю, можно сомневаться. Впрочем, это к делу не относится. Только уже с тех лет у меня появилась привычка осмысливать вещи, разглядывать всё вокруг себя. Об этом я должен вас предупредить с самого начала и как пример — вот это моё воспоминание, которое не имеет особого отношения к вопросу и которое вам ни для чего не будет нужно. Но вы читайте дальше, имея это в виду. Это моё свойство, распространяясь в этическом смысле на действия и поведение отдельных людей, мне думается, и привело к тому, что я стал впоследствии всё более и более сомневаться в добродетели других. И знайте, что именно это, несомненно, и увеличило ощущение тоски и страданий.
Рассказ мой уклонился в сторону и стал непонятным, поэтому я вновь вернусь назад.
И всё же, когда я пишу это длинное письмо, мне думается, что в сравнении с людьми, находящимися в моём же положении, я ещё довольно спокоен.
Замолк шум трамвая, как бы в знак того, что всё кругом заснуло. За наружными рамами чуть-чуть слышатся жалобные голоса ночных насекомых, своими звуками как будто бы напоминающих о росистой осени. Ничего неведающая жена спокойно спит в соседней комнате.
Когда я беру кисть, эта кисть дрожит при каждом знаке, при каждой черте. Но со спокойным сердцем склоняюсь я над бумагой. Может быть, это перо и стремится по привычке писать вкось, но только я не думаю, чтобы оно бежало так беспорядочно оттого, что ум мой в смятении.
IV
Так или иначе, мне, оказавшемуся одиноким, ничего не оставалось другого, как по наказу матери искать опоры в дяде. Дядя, со своей стороны, приняв все дела, обо всём позаботился. И постарался сделать так, чтобы я смог уехать в Токио, куда я так стремился. По прибытии в Токио я поступил в Высшую Нормальную Школу. В те времена ученики были гораздо грубее и буйнее нынешних. Среди моих знакомых были такие, которые по вечерам устраивали драки с мастеровыми и наносили противникам своими гэта[7] раны в голову. Это бывало в результате попойки и случалось, что в такой неистовой перепалке у них отнимали в конце концов форменные фуражки. А внутри фуражки на белой материи всегда было написано имя владельца. Поэтому дело осложнялось, и о таком субъекте посылался в школу запрос из полиции. Однако товарищи всеми способами старались всегда, чтобы дело не выплывало наружу. Вам, воспитанному в нынешней приличной атмосфере, такое буйное поведение, по всей вероятности, покажется глупым. Собственно говоря, и мне оно представляется глупым. Но все товарищи взамен этого обладали такими свойствами своеобразной искренности, которых нет у нынешних учащихся.
Получаемая мною в те времена от дяди ежемесячная сумма денег была гораздо меньше той, которую теперь получаете вы от отца. Но зато, конечно, и цены были другие. Поэтому я не чувствовал недостатка ни в чём. Более того, положение моё среди многочисленных сверстников в смысле средств вовсе не было таким жалким, чтобы я должен был кому-нибудь завидовать. Когда я теперь озираюсь на это время, то думаю, что скорее мне другие могли завидовать. Потому что, помимо ежемесячно определённой суммы, я часто требовал у дяди денег то на покупку книг (я уже с того времени полюбил собирать книги), то на экстренные расходы и мог их тратить по своему усмотрению.
Ещё ничего не понимая, я верил своему дяде; более того, я всё время питал к нему чувство благодарности и относился к нему с признательностью и уважением. Дядя мой был человек дела. Его даже выбрали в члены префектуального собрания. Вероятно, в связи с этим, как мне кажется, у него было касательство и к политическим партиям. Несмотря на то, что он был родным братом моего отца, с этой точки зрения, по своему характеру они пошли по совершенно различным дорогам. Отец мой представлял собою простого человека, бережно хранящего то достояние, что оставили ему предки; его радостями были цветы и чай; кроме того, он любил читать поэтические произведения. У него был большой вкус и к таким вещам, как книги, картины, старинные вещи. Дом наш находился в деревне, но в двух милях от нас был город; в этом городе жил дядя, и оттуда продавцы часто специально приносили показать отцу то картины какэмоно, то курильницы для благовоний. Коротко выражаясь, отца можно было охарактеризовать, как „man of means“, как провинциального джентльмена, обладающего сравнительно изящными вкусами. Поэтому по своему нраву он очень отличался от дельца-дяди. И несмотря на это, отношения их друг к другу были на редкость хороши. Отец часто, говоря о дяде, выражался о нём как о человеке, гораздо более трудоспособном, чем он сам. Он говорил, что если иметь, подобно ему самому, состояние, оставленное родителями, то способности, присущие человеку, обязательно тупеют; коротко говоря, не хорошо, если нет необходимости бороться с окружающим миром. Такие слова слышала от него мать. Слышал и я. Отец говорил их, как будто желая наставить меня. „Ты это пойми хорошенько!“ — обращал он в этих случаях свой взор на меня. Поэтому я это и помню. Мог ли я, следовательно, подозревать в чём-либо этого дядю, которого так хвалил, которому так доверял отец? Он и при обычных условиях мог быть дядей, которым я должен был бы гордиться. Но для меня, после смерти отца во всём вверенного его попечению, он являлся не только предметом гордости: он стал человеком, необходимым для моего существования.
V
Когда я, воспользовавшись летними вакациями, приехал к себе домой, в нашем жилище, с которым я расстался после смерти родителей, теперь жили в качестве новых хозяев дядя с женой. Так у нас и было условлено ещё до моего отъезда в Токио. Для меня, оставшегося совершенно одиноким, другого выхода не было.
Дядя в то время имел дела с различными акционерными обществами в городе. Смеясь, он заметил, что с точки зрения дел, ему было бы гораздо удобнее жить в своём прежнем городском доме, чем переселяться в наше жилище, отстоявшее от города на две мили. Это он проронил ещё тогда, когда я собирался уезжать в Токио.
Дом наш имел свою историю, восходящую к древним временам, и в некоторых кругах пользовался известностью. Вероятно, у вас на родине обстоит точно так же; в деревне разрушать или продавать, при наличии наследника, дом, имеющий свою историю, представляется событием огромной важности. Теперь мне это вовсе не кажется так, но тогда я был ещё ребёнком и поэтому, уезжая в Токио, чрезвычайно сокрушался, не зная, как бы сохранить дом наш в его прежнем состоянии.
Дядя в силу необходимости согласился переселиться в наш опустевший дом. Однако он заявил при этом, что оставит за собой и своё городское помещение и будет бывать и там и здесь, так как иначе ему будет трудно с делами. Разумеется, я не мог ничего возразить против этого. Я готов был на всякие условия, лишь бы мне можно было уехать в Токио.
Будучи ещё совсем ребёнком, я и в разлуке с родиной всё ещё с нежностью глядел очами своего сердца на эту родину. Я взирал на неё с чувством путника, которому предстоит туда вернуться. Как бы мил ни казался мне Токио, но как только наступали каникулы, у меня появлялось чувство необходимости поехать домой, и это чувство бывало очень сильным. И часто после усиленных занятий, после весёлого гулянья я грезил во сне этой родиной, куда я смогу вернуться на каникулы.
Я не знаю, каким образом дядя устраивался в моё отсутствие с этими двумя жилищами. Когда я явился, всё его семейство собралось в нашем доме. Дети его, ходившие в школу, в обычное время, наверное, проживали в городе, но теперь, по случаю летних каникул, все были взяты сюда на положение как бы гостей.
Все обрадовались, увидев меня. И мне тоже было приятно видеть свой дом гораздо более оживлённым и весёлым, чем при отце с матерью. Дядя выселил из моей прежней комнаты своего старшего сына, поселившегося было в ней, и предоставил её мне. Комнат в нашем доме было немало, мне было всё равно, где поместиться, и я возражал, но дядя заявил:
— Это твой дом.
Он не хотел меня слушать.
Кроме иногда возникавших воспоминаний об умерших отце и матери, у меня не было никаких печалей, и проведя лето с семьёй дяди, я опять вернулся в Токио. Единственное обстоятельство за всё лето, которое оставило в моей душе лёгкую тень — это уговоры дяди и его жены — жениться, — жениться мне, только что поступившему в школу! Они раза три-четыре повторяли это. Сначала я был только изумлён этим неожиданным разговором. Во второй раз я решительно отказался. В третий раз я задал им вопрос, почему они об этом говорят? Мысль их была самой простой: только всего, чтобы я скорее женился и поселился здесь с женою и взялся бы за наследство отца. Мне казалось, что будет вполне достаточно, если я на каникулах стану приезжать домой. Наследовать отцу, жениться, коль скоро это нужно, — всё это имело свой смысл. В особенности это было понятно мне, знакомому с положением дел в провинции. Я сам был не абсолютно против этого. Только мне, едва принявшемуся в Токио за занятия, всё это представлялось чем-то очень далёким, словно я смотрел на это в телескоп. Поэтому я в конце концов уехал из дому, не дав своего согласия на уговоры дяди.