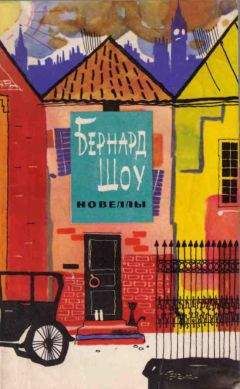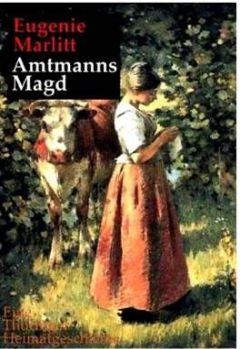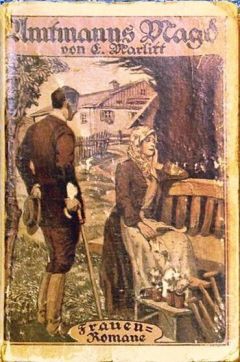— Нет, дитя мое, — сказал император. — Я из тех, кого называют кайзерами.
— А я думала, кайзер только один, — сказала девочка.
— Нет, нас трое, — сказал кайзер.
— И все должны закручивать усы вверх? — спросила девочка.
— Нет, — сказал кайзер. — Можно носить бороду, если усы не закручиваются.
— Так их надо накрутить на папильотки, как я накручиваю волосы перед пасхой, — сказала девочка. — А что делает кайзер? Воюет или подбирает раненых?
— Делать он ничего не делает, — сказал император. — Он думает.
— О чем же он думает? — спросила девочка, которая, как псе дети, очень мало знала о людях и потому, когда встречала кого-нибудь, задавала великое множество вопросов и нередко слышала в ответ, что нельзя быть такой любопытной, — правда, мать обычно ей говорила: «Не задавай вопросов, и не услышишь лжи».
— Если бы кайзер стал об этом рассказывать, он бы не думал, правда? Он бы разговаривал.
— Наверно, очень странно быть кайзером, — сказала девочка. — Но что же вы все-таки делаете тут так поздно, раз вы не ранены?
— А ты обещаешь никому этого не говорить, если я тебе скажу? — спросил император. — Это секрет.
— Честное слово, обещаю, — сказала девочка. — Пожалуйста, скажите. Я люблю секреты.
— Тогда слушай, — сказал император. — Утром я сказал своим солдатам, как я жалею, что не могу идти с ними в окопы и сражаться под огнем, ведь, к несчастью, я должен думать за них за всех, а если меня убьют, они но будут знать, что делать, и их всех разгромят и перебьют.
— Вы поступили очень нехорошо, — сказала девочка, — потому что все это неправда. Когда убили моего брата, другой встал на его место, и бой продолжался, будто ничего и не случилось. Я думала, они хоть на минуту перестанут драться, а они не перестали. И если вас убьют, ведь кто-нибудь займет ваше место?
— Да, — сказал император. — Мой сын.
— Тогда зачем же вы им наврали? — спросила девочка.
— Я был вынужден, — сказал император. — Для того и существует кайзер: он вынужден говорить то, во что ни он сам, ни другие не верят. Сегодня я понял по лицам некоторых солдат, что они мне не верят и думают, будто я просто ищу оправдания своей трусости. И вот когда настала ночь, я лег в кровать и притворился спящим, но, когда все ушли, я встал и потихоньку пробрался сюда, чтобы убедиться, что я не боюсь. Вот почему я стою, когда взлетают ракеты.
— А чего бы вам не сделать этого днем? — спросила девочка. — Ведь тогда опасно по-настоящему.
— Мне бы не позволили, — сказал император.
— Бедный кайзер! — сказала девочка. — Мне вас очень жалко. Надеюсь, что вас не ранят. А если ранят, я принесу вам воды.
Императору так понравилась девочка, что он поцеловал ее и только потом встал и взял ее за руку, чтобы отвести в безопасное место*. А ей так понравился император, что она уже ни о чем другом не думала. Вот почему ни он, ни она не заметили, как прямо над ними взвилась ракета и при ее свете высокая фигура императора стала отчетливо видна даже издали, хотя маленькую девочку в стареньком коричневом платьице и, по правде говоря, довольно чумазую даже вблизи можно было принять за муравьиную кучу.
В следующий момент раздался устрашающий свист — прямо на hjix с огромной скоростью летел большой снаряд, обгоняя грохот выстрела. Император быстро обернулся, и в это время вспыхнули еще две звезды, и к императору и девочке полетел новый снаряд, пущенный издалека. Это был очень большой снаряд: император видел, как он несется по воздуху, похожий на огромного взбесившегося слона, грохоча, словно поезд в туннеле. Первый снаряд разорвался неподалеку от них с таким оглушительным треском, что императору показалось, будто он разорвался у него в ухе. А второй снаряд продолжал стремительно приближаться.
Император упал на землю и зарылся в нее всеми пальцами, словно надеясь укрыться от опасности. Внезапно он вспомнил про девочку и ужаснулся при мысли, что ее может разорвать на части; забыв о себе, он хотел было вскочить и прикрыть ее своим телом.
Но наши мысли опережают наши поступки, а снаряды почти гак же быстры, как мысли. Не успел император вытащить пальцы из глины и подогнуть колени, чтобы встать на ноги, как раздался страшный грохот. Император никогда не слышал ничего подобного, хотя уже успел привыкнуть к звукам далекой канонады. Это был и не свист, и не рев, и не треск, а какой-то страшный, неистовый, всесокрушающий звук, в котором слились воедино и стук, и грохот, и свист, и рев, и гром, точно наступил конец света. Целую минуту император верил, что его вывернуло наизнанку: ведь норой снаряды действительно выворачивают людей наизнанку, взрываясь рядом. Когда он наконец встал с земли, то никак но мог понять, на чем же он стоит — на голове или на ногах; да он, собственно, и но стоял, так как, не успей подняться, снопа падал. Стремясь удержаться в вертикальном положении, он ухватился за что-то и обнаружил, что ото дерево, которое находилось довольно далеко от пего, когда прилетел снаряд, и понял, что его отбросило туда взрывной волной. И тотчас подумал вслух:
— А где же ребенок?
— Здесь, — ответил голос с дерева над его головой. Это был голос девочки.
— Gott sei dank! — с огромным облегчением произнес император; по-немецки это значит: «Слава богу!» — Ты по ушиблась, дитя мое? Ведь тебя могло разорвать на мелкие кусочки.
— А меня и разорвало на мелкие кусочки, — сказал голос девочки. — Меня разорвало на две тысячи тридцать семь маленьких, совсем крошечных кусочков. Снаряд попал прямо в меня. Самый большой кусок, который от меня остался, — это мизинец на ноге; его унесло за полмили, вон туда, а ноготь с большого пальца — на полмили в другую сторону, а четыре реснички — в воронку, где лежат четыре солдата, по одной на каждого; а передний мой зуб впился в ремень вашей каски. Только ему все равно пора было выпасть — он уже давно шатался. А больше от меня ничего и не осталось — все сгорело и превратилось в пыль.
— Ich habe es nicht gewollt, — сказал император таким голосом, что кому угодно стало бы его жалко.
Но девочке было вовсе не жаль его. Она сказала:
— Ну теперь-то не все ли равно, хотели вы или не хотели. А уж как я смеялась, когда вы шлепнулись лицом вниз в вашем красивом мундире! Так смеялась, что даже не почувствовала взрыва, хоть меня, наверно, рвануло как следует. На вас и сейчас смешно смотреть, — уцепились за дерево и качаетесь, совсем как мой дедушка, когда напьется.
Она рассмеялась, но удивительнее всего, что император услышал и еще чей-то смех, хриплый, грубый смех нескольких мужчин.
— Кто там смеется? — спросил он. — С тобой кто-то есть?
— А как же, — ответил голос девочки. — Те четверо, которые лежали в воронке, теперь они здесь, наверху. Первый же снаряд их освободил.
— Du hast es nicht gewollt, Виллем, was?[26] — спросил один из хриплых голосов, и все рассмеялись: очень уж смешно было слышать, как простой солдат называет императора Виллемом.
— Вы не должны отказывать мне в знаках почтения, к которым вы же меня приучили, — сказал император. — Я не сам сделал себя кайзером. Вы вознесли меня на это место, лишили меня естественного равенства и невинных радостей обычных людей. Теперь я вам приказываю относиться ко мне как к идолу, в который нм меня превратили, а не как к простому человеку, каким меня создал бог.
— Не имеет смысла разговаривать с ними, — сказал голос девочки. — Они все улетели. Не так уж вы их интересуете, чтобы они стали слушать вас. Здесь пикою не осталось, кроме меня да боша в очках.
С дерева донесся мужской голос.
— Я не отправился с ними, потому что не желаю общаться с солдатами, — сказал он. — Они знают, что вы сделали меня профессором за то, что я лгал им про вашего деда.
— Дурак, — грубо обрезал его император. — А ты когда-нибудь говорил им правду про своего-то деда?
Ответа не последовало; на некоторое время воцарилось молчание, затем голос девочки произнес:
— Он тоже улетел. Я думаю, его дедушка был не лучше нашего или моего. Ну, теперь и мне пора. Мне жалко с вами расставаться, потому что вы мне очень правились, до тех пор, пока снаряд не освободил и меня. Но теперь вы почему-то уже ничего не значите.
— Дитя мое, — произнес император, глубоко опечаленный тем, что она хочет его покинуть. — Я значу столько же, сколько и раньше.
— Конечно, — сказал голос девочки, — но не для меня. Понимаете, вы для меня никогда ничего не значили — разве что в ту минуту, когда я по глупости боялась, что вы можете убить меня. Я думала, что это будет больно, а на самом деле я освободилась. И теперь я стала свободной, а это куда приятнее, чем быть голодной, мерзнуть и бояться, и вы для меня ничего не значите. Ну, до свидания.
— Погоди минутку, — умоляюще сказал император. — Тебе торопиться некуда, а я так одинок.