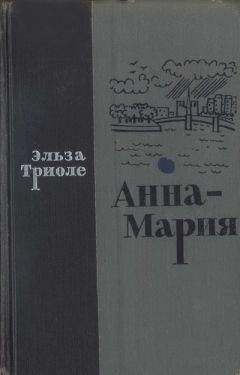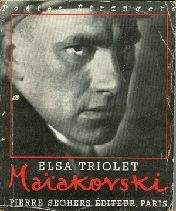— Да… он бежал из плена… Мосье Вуарон просил передать, что когда вы отдохнете и захотите его видеть…
— Но я уже отдохнула!
Мадам де Фонтероль поднялась и прошла за моей спиной к телефону, стоявшему на огромном письменном столе в глубине комнаты. «Это вы, Ольга? — сказала мадам де Фонтероль в трубку. — Позвоните мосье и скажите, что мадам Белланже хочет его видеть…»
Жако вошел тут же, словно он стоял и ждал за дверью! Мы упали друг другу в объятия. Это был Жако, чуть побледневший, чуть ссутулившийся, но с таким блеском в глазах, какого я никогда прежде у него не замечала… Ах, какое счастье снова увидеться с ним!
Мы позавтракали втроем в кабинете, здесь было спокойнее из-за той маленькой дверцы. Как много нам с Жако надо было сказать друг другу… Мадам де Фонтероль слушала нас, угощала. Сын ее — у де Голля; Жако участвует в движении ФТП[15]. Муж Ольги, горничной, скрывается, чтобы его не угнали в Германию, остается только мне включиться в игру. Кто-кто, а Жако прекрасно понимал, как бессмысленно дорожить никому не нужной жизнью. По его словам, он всегда догадывался, что я люблю риск. Не знаю, откуда он это взял. Он говорил, что прекрасно представляет себе меня в клетке со львами, — правда, ему не совсем ясно в качестве кого: укротительницы или святой Агнессы, которая, прикрыв свою наготу распущенными волосами, ждет на арене мученического конца…
В ту ночь я легла спать, сгорая от нетерпения и необычайного прилива сил. Немыслимо, выйдя из тюрьмы, начать жизнь с того, на чем она прервалась, жизнь ведь не книга, где можно заложить страницу, а потом, когда вздумается, спокойно продолжить чтение.
Я очень быстро свыклась со своим новым существованием. Казалось, именно его мне и не хватало, если не для счастья, то хотя бы для того, чтобы сносить жизнь. Я часто думала о Женни: никто никого не любит? О, братство героических лет Сопротивления! Оно существовало, оно было сильнее всего.
Подпольная деятельность связана с частой переменой мест, и тут большую роль играли те, кого я называла «укрывателями». Это были люди настолько далекие от политики, настолько вне подозрений как у французской, так и у немецкой полиции, что они могли спокойно прятать у себя участников Сопротивления. Все мы вынуждены были прибегать к помощи таких «укрывателей», ибо скрываться у самих участников Сопротивления было опасно и для укрывающих, и для укрываемых.
Одни «укрыватели» шли на риск добровольно из чувства долга, другие, главным образом те, что сдавали комнаты за деньги, даже не подозревали, какой «динамит» прячут под своей крышей. Этих я избегала: тяжело обманывать чье-либо доверие, даже во имя правого дела. Среди них встречались хорошие люди, ласково относившиеся к одинокой женщине, разлученной с семьей, с детьми… Я боялась, что подведу их, что по моей оплошности в их доме найдут листовки, оружие или арестуют меня самою. Мне не давала покоя эта мысль, и при первой возможности я старалась уйти прочь.
Существовали еще и «укрыватели» по принуждению. Когда другого выхода не оставалось, когда в гостинице останавливаться было опасно и в целом городе для тебя не находилось ни кровати, ни стула, чтобы скоротать ночь, а комендантский час соблюдался со всей строгостью и залы ожидания на вокзалах представляли смертельную угрозу, что ж, в таком случае не приходилось считаться с тем, по вкусу ли это хозяевам или нет. Тем хуже, если вас встречали с кислой миной и говорили: «У нас нет лишних простынь, горничная ненадежна, в доме — ни одного ячменного зернышка, чтобы приготовить вам утром чашку кофе, и, пожалуйста, не зажигайте электричества — в последний раз мы заплатили огромный штраф, могут выключить свет, а главное, не вздумайте появляться вторично, мы ожидаем родственников, и для вас не найдется места…» Подобные «укрыватели» встречались не так уж редко. Не предатели, но эгоисты или трусы, а иногда то и другое вместе.
«Да, — думала я, лязгая зубами на диване у негостеприимного „укрывателя“, — правду говорила Женни, никто никого не любит… Но если это действительно так, то как же мы избавимся от немцев?» Отчаяние и холод пронизывали меня до костей. Потому что одна только эта мысль, одна лишь мысль о том, что никто никого не любит, способна довести человека до полного отчаяния.
Именно таким образом, когда мне понадобилось прожить некоторое время на Южном побережье, я попала к жене Рауля Леже. Устроил это Жако.
Жену Рауля звали Эльвирой. Она принадлежала к еще одной разновидности «укрывателей» — к типу шальных. Ни на секунду Эльвира даже мысли не допускала, что из-за меня может попасть в беду, она с такой же беспечностью играла бы гранатой вместо мяча и курила бы, сидя на ящике с порохом. Она воспринимала все по-своему: для нее я была лучшей подругой легендарной Женни Боргез, а теперь я участница Сопротивления! Как это романтично и увлекательно!
Мария когда-то ее хорошо описала: эта высокая, крупная, величавая женщина с медно-красными волосами, гладко зачесанными над гладким, напудренным лбом, с великолепными черными глазами чем-то напоминала императрицу. И в ней было свое обаяние. Ее можно было бы назвать красавицей, но все портили неровные зубы, приподнимавшие верхнюю губу. «Она — явная дура!» — добавила тогда Мария, но тут она ошиблась. Эльвира не дура, скорее уж ограниченна, да и в этом я не вполне уверена. Сговорчивая, покладистая, щедрая на избитые афоризмы, она на лету подхватывала ваши слова и так охотно поддакивала, что сам собой напрашивался вопрос, не являлось ли все это с ее стороны выражением августейшего презрения и высочайшего равнодушия. Но, возможно, меня вводила в заблуждение ее внешность.
В прошлом актриса, Эльвира уже давно бросила сцену и только с тех пор, как поселилась в своем доме на Лазурном берегу, снова начала работать на радио. Рауль все еще был в плену, и ей приходилось зарабатывать себе на жизнь.
Эльвира поместила меня в комнате, которую называла голубой: комната была уставлена голубыми фаянсовыми статуэтками — рыбы, наяды, — залитая знойным солнцем терраса с голубыми балясинами выходила на голубое фаянсовое море… Две окаменевшие от старости пальмы, рваные листья которых шевелились, словно клешни крабов, были единственными утратившими свежесть предметами в этом новеньком, отполированном, отлакированном мирке. Эльвира редко уходила из дому, только на работу, да еще иногда, после обеда, отправлялась в Ниццу посидеть в баре, послушать джаз. Мы с ней часто и подолгу болтали. Эльвира много говорила о мужчинах и сетовала, что у нее сейчас нет постоянного поклонника. Говорила, что в эту войну мужчинам не до женщин: они рассеянны, им бы только покурить да поесть, днем и ночью они слушают радио, говорят только о политике и нисколько не стараются понравиться даме. И то сказать, когда Франция недосчитывается двух миллионов мужчин, женщинам приходится трудно. Множество хлопот доставляли Эльвире посылки Раулю, на которые она не жалела ни энергии, ни денег.
С того дня, как радио наконец-то обзавелось дизельным автомобилем и его стали посылать за Эльвирой, избавив ее тем самым от необходимости ездить в вечно переполненном, вечно запаздывающем автобусе, настроение Эльвиры заметно улучшилось и она повеселела. Она стала следить за собой, наряжалась, душилась и, загоревшая, подкрашенная, возбужденная, хорошела у меня на глазах с каждым днем. Отправляясь на радио, она из автомобиля посылала мне воздушные поцелуи, громко давала наставления: отдыхай, ешь, и т. д. и т. п. Шофер, совсем молодой паренек, был очень мил и вежлив. Однажды, наблюдая, как Эльвира усаживается рядом с ним в машину, я невольно повторила изречение Женни: «Если так кажется, значит так оно и есть». И невольно улыбнулась. Но ведь бывают случаи, когда кажется, когда очень похоже, а на самом деле ничего нет и даже быть не может. Когда же я застала их целующимися у подъезда, я тихонько убежала и мысленно произнесла другое изречение Женни: «Все спят со всеми!» Впрочем, какое мне дело! Образ мыслей у молодого шофера был вполне благонадежный: он ненавидел немцев и издевался над Петеном. Это единственное, что было для меня важно в их романе, если отбросить его комическую сторону. Положиться на умение Эльвиры держать язык за зубами было бы смешно, и любовник ее мог оказаться опасным для меня человеком.
Но теперь Эльвира страстно желала, чтобы я куда-нибудь убралась. Я ей мешала, и она не упускала случая дать мне это почувствовать. Куда девались ее былая сговорчивость и покладистость… Да, одним из самых больших неудобств тех страшных лет была зависимость от доброй воли людей. Жить в чужом углу и без того утомительно: никогда не позволять себе распускаться, плакать или смеяться, вставать или спать, включать радио или есть, когда и как тебе хочется… Всегда считаться с окружающими! Не так уж сладко жить все время с мыслью, что ты стесняешь людей, которые из любезности согласились тебя приютить (кстати, со временем я заменила в своем лексиконе слово «любезность» словом «долг»), но когда опасение превращается в уверенность, то окончательно теряешь душевное равновесие. Меня это мучило гораздо больше, чем страх за свою участь. С тех пор как Эльвира завела любовника, она только и думала, как бы избавиться от меня и остаться с ним наедине. А мне нельзя было уехать, нельзя было из-за шашней Эльвиры оборвать связь с Жако, которого я обязана была ждать здесь. Не могла же я по ее милости срывать работу. Не уеду! Я делала все, чтобы она перестала меня стесняться: послушать меня, так у всех моих подруг, а особенно у жен военнопленных, есть любовники, и это совершенно понятно, ведь жизнь так коротка и т. д. и т. п. Однако все было напрасно: Эльвира не решалась взять меня в наперсницы. Думаю, ее смущало социальное положение любовника. Однако раз уж тебя зовут Эльвирой, то с кем же тебе спать, как не с шофером! Я становилась злой. Эльвира превращалась в мегеру. Но я не сдавалась.