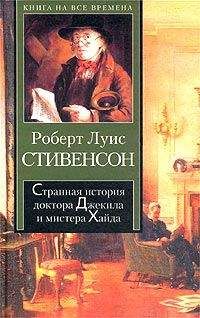И вообще, он знаком с ним недостаточно близко, чтобы лезть с визитом в такую рань.
Одно можно точно сказать. Нынче же вечером он отправится в пещеру Меркурия. Кит был прав. Он должен попытаться «найти себя». Нужно побыть одному, как следует всё обдумать. Или не нужно? Как-то не хотелось ему оставаться наедине со своими мыслями. Уж больно они были гнетущими. Он нуждался в чьём-либо обществе.
И вообще, Кит сказал «в полнолуние». А луна пока не совсем полная.
Нет!
Он заглянет к Герцогине, посмотрит, чем та занята и, возможно, останется завтракать. Эймз подождёт. Как и епископ. И пещера. А к Герцогине он искренне привязался.
И вообще, у неё такой оригинальный дом — этот суровый старинный монастырь, построенный Добрым Герцогом Альфредом.
— Вот почему я так не люблю обедать с мужчинами. На следующее утро приходится оставаться по-прежнему обходительным. Но ведь нам с вами, Эймз, нет нужды церемонничать? Мне очень хочется, чтобы вы появились у меня нынче вечером. Неужели вы и вправду никак не можете прийти? Я хочу, чтобы вы познакомились с Малипиццо и сказали ему несколько приятных слов. Вы слишком холодны с ним. Самое главное — поддерживать добрые отношения с законом.
— То есть?
— То есть с Судьёй, — сказал Кит. — Нет ничего проще, чем проявлять вежливость по отношению к людям, а иногда — и ничего разумнее. Вам хотелось бы провести пару недель в тюрьме? Рано или поздно он вас туда упечёт, если, конечно, вы не сумеете внушить ему чувство признательности. Он представляет здесь правосудие. Я знаю, вы его не выносите. Но так ли уж трудно обменяться с ним дружеским рукопожатием?
— Он не посмеет меня тронуть. Моя совесть чиста.
— Совесть, дорогой мой друг, хороший слуга, но плохой хозяин. Это всё английские сантименты. В стране, где личные отношения всё ещё кое-что значат, от них проку мало.
— Личные отношения, которые сводятся к фаворитизму и продажности? — спросил Эймз. — Хорошенькие порядки!
— Философ может спокойно жить только при продажном правительстве.
— Совершенно с вами не согласен.
— А вы никогда со мной не соглашаетесь, — откликнулся Кит. — И всегда оказываетесь неправы. Вспомните, как я вас предостерегал насчёт того увлечения. И вспомните, каким ослом вы себя в итоге выставили.
— Какого увлечения? — с ноткой безнадёжности в голосе спросил Эймз.
Его собеседник молчал. В определённых случаях мистер Кит умел проявлять тактичность. Он сделал вид, будто поглощён отрезанием кончика у сигары.
— Так какого же увлечения? — настаивал библиограф, страшась того, что должно было последовать.
Оно и последовало.
— Ну, той истории с аэростатом…
Было бы неправдой сказать про мистера Эймза, будто он жил на Непенте, потому что лондонская полиция разыскивала его в связи с некоторыми происшествиями в Ричмонд-парке; будто настоящая его фамилия вовсе не Эймз, а Даниэлс — ну, знаете, печально известный Ходжсон Даниэлс, тот, что был замешан в скандал вокруг Клуба «Лотос»; будто он являлся местным уполномоченным международной шайки торговцев живым товаром, дочерние предприятия которой раскиданы по всему свету; будто он и вообще не мужчина, а бывшая владелица меблированных комнат, имеющая основательную причину скрываться под мужским обличьем; будто он заядлый морфинист, лишённый сана баптистский священник, удалившийся от дел ростовщик, огнепоклонник, румын, оступившийся банковский клерк, опустившийся жокей, который после вынужденной отставки покрыл себя позором в связи с одним ист-эндским исправительным заведением, предназначенным для мальчиков из Бермондси, а затем — после того, как заложил драгоценности собственной матушки, забросал дам из общества анонимными письмами с угрозами разоблачить их мужей, а самих мужей точь в точь такими же, но уже с угрозами относительно дам; пытался шантажировать трёх членов Кабинета министров; лишил множество несчастных девушек-служанок их тяжким трудом заработанных накоплений, продавая им поддельные Библии — затем после захватывающей погони был, наконец, изловлен полицией на площади Пикадилли, причём в руках у него находился сорокафунтовый лосось, которого он на глазах у множества свидетелей стянул на Бонд-стрит прямо из витрины рыботорговца.
Всё это и многое сверх этого о нём говорили. Мистеру Эймзу это было известно. Добрые друзья не оставляли его своими заботами.
Сочинением подобных историй утверждалась в глазах общества некая проживавшая на острове дама. Вследствие определённого физического недостатка она редко появлялась на людях, ей только и оставалось, что сидеть, подобно Пенелопе, дома и ткать ковры — этот был ещё не из самых ярких, — пуская в дело обрывки приносимых слугами сплетен, которые она скрепляла злокачественными выделениями собственного разнузданного воображения. Мистера Эймза отчасти утешала мысль о том, что он не единственный из оклеветанных таким манером обитателей острова, и что чем человек безобиднее, тем страшнее связанные с ним россказни. И всё-таки он страдал. Вот по какой причине (помимо отвращения, питаемого им к Паркеровой отраве и к невоздержанной, шумной болтовне завсегдатаев) он так редко заглядывал в клуб «Альфа и Омега» — ему неизбежно пришлось бы встречаться там со сводным братом этой дамы. Разумеется, он прекрасно понимал, как ему следовало поступить. Ему следовало воспользоваться примером людей, которые вели себя, как мерзавцы, и открыто этим гордились. Только так и можно было сквитаться с нею: выбить у неё почву из-под ног. Кит нередко прочитывал ему на эту тему краткую лекцию:
— Вы же наверняка понимаете, в чём состоят практические достоинства совершения какого-нибудь непотребства. Это единственный способ заткнуть ей рот, если, конечно, вы не предпочитаете её отравить, что даже здесь обойдётся вам недёшево, хотя можете быть уверены — я сделаю всё для меня посильное, чтобы Малипиццо закрыл на содеянное вами глаза. Я только боюсь, что вы не осознаёте должным образом достоинств негодяйства как формы художественного творчества и образа жизни. Подумайте сами: любому правому делу соответствуют тысячи неправых! Какое обширное поле приложения сил для одарённого человека, особенно в стране вроде этой, где независимое и открытое поведение всё ещё пользуется уважением. А вы за последнее время не совершили ничего достойного занесения в chronique scandaleuse[17] Непенте. Сколько лет прошло со времени этого вашего увлечения, двенадцать? Время уходит, а вы по-прежнему возитесь со своим старичком Перрелли, погружаясь в трясину нравственного оцепенения. Вы ведёте себя попросту нечестно по отношению к нам, ко всем остальным. Мы все стараемся по мере сил сделать жизнь более яркой и праздничной. Опомнитесь. Встряхнитесь. Будьте мужчиной! Сделайте что-нибудь, докажите, что вы ещё живы.
Мистер Эймз выслушивал его тирады с улыбкой негодующего изумления. Он не обладал способностями, необходимыми для того, чтобы жить в соответствии с идеалами человека, подобного Киту, чьё расположение к греховности во всех её проявлениях могло бы сделать его решительно неприемлемым для порядочного общества, когда бы не его вопиющее добродушие и замечательно вкусные завтраки. Мистеру Эймзу оставалось лишь молча страдать.
А причина для страданий у него имелась весьма основательная. Упомянутое двенадцатилетней давности «увлечение» обзавелось ныне разительным сходством с призраком, никак не желающим упокоиться с миром. История эта была известна на острове каждому, всякая новая партия приезжих получала её от предыдущей, будто эстафетную палочку. Мистер Эймз знал, что при любом упоминании его имени этот единственный неблагоразумный поступок, какой он себе позволил, преподносится очередному слушателю, наподобие лакомого блюда. Блюда, не утратившего вкусовых качеств, даром, что он искупил содеянное двенадцатью годами беспорочной жизни. Да он и сам чувствовал себя виноватым. В прошлом его имелась неблаговидная тайна, и он понимал, что говорят о нём люди.
— Эймза знаете? Ну да, его самого. Тихоню, который что-то там пишет. Оно конечно, и половина того, что о нём болтают, не лезет ни в какие ворота. Женщина она неплохая, но тут явно переборщила. И всё-таки нет дыма без огня. А знаете, что с ним случилось на самом деле, не знаете? Да уж! Глядя на него и не скажешь, что он на такое способен.
Так что же случилось?
А случилось то, что библиограф влюбился, как может влюбиться лишь чистый помыслами, рыцарственный джентльмен. То был его первый да и последний опыт подобного рода — всепоглощающая страсть, делающая немало чести его сердцу и очень мало — уму. Пробудившееся в нём чувство оказалось настолько глубоким, что на краткие месяцы безрассудной влюблённости мистер Эймз не просто забыл о своём кумире Перрелли, но проникся к нему насмешливым презрением. Весь характер библиографа переменился. И пока на кипы его заметок оседала пыль, мистер Эймз, к изумлению окружающих, разыгрывал светского господина. То было истинное преображение. В нём обнаружилось пристрастие к модным галстукам и коротким гетрам, он зачастил на пикники и лодочные прогулки, обедал в ресторанах и даже изрёк одну или две ставших классическими шутки насчёт сирокко. Пока истинная причина его поведения не выплыла наружу, Непенте лишь таращился в изумлении. Когда же она выплыла, общее мнение свелось к тому, что он мог бы избрать для обожания предмет подостойнее, чем «ballon captif[18]».