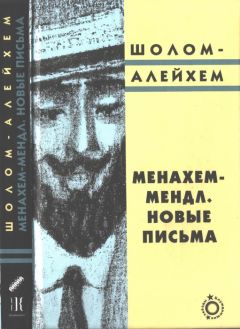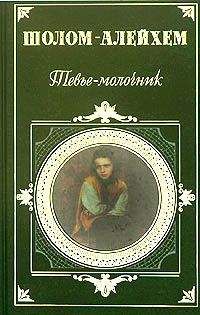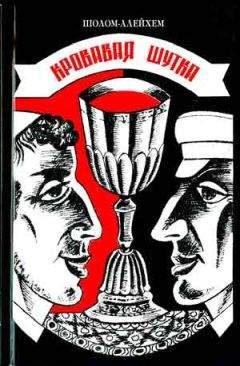(№ 140, 02.07.1913)
20. Менахем-Мендл из Варшавы — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку.
Письмо двенадцатое
Пер. В. Дымшиц
Моей дорогой супруге, разумной и благочестивой госпоже Шейне-Шейндл, да пребудет она во здравии!
Прежде всего, уведомляю тебя, что я, слава Тебе, Господи, нахожусь в добром здоровье, благополучии и мире. Господь, благословен Он, да поможет и впредь получать нам друг о друге только добрые и утешительные вести, как и обо всем Израиле, — аминь!
Затем, дорогая моя супруга, да будет тебе известно, что все висит на волоске. В то время как я тебе писал мое предыдущее письмо, у сербов было великое собрание[291]. На этом собрании все замерло как на весах — или туда, или сюда. Хоть сербское царство совсем маленькое, но в нем, следует тебе знать, как в любом другом царстве, есть нынче разные толки. Один скажет так, а другой — наоборот. Один говорит мир, другой — война. Я теперь в политике тертый калач и давно замечаю, что цари в основном миролюбцы, а их наследники, наоборот, за войну. Молодые люди, понимаешь ли, рвутся в бой, хотят покрасоваться. Как, ты думаешь, обстоит дело у Франца-Йойсефа? Ведь вовсе не сам Франц-Йойсеф, не дай Бог, а как раз его наследник, Франц-Фердинанд[292], уже давно хочет заварить кашу. Точно то же самое и у Вильгельма Второго[293]. Я против него ничего не имею, пусть себе старится в мире. Но замечу, что едва Вильгельм закроет глаза, как ты увидишь, что его наследник сразу полезет воевать. Ты, верно, спросишь, коли так, можно ли тут быть хоть в чем-нибудь уверенным? Отвечаю: на то есть Бог, Страж Израилев, продлевает Он годы царей до тех пор, пока их наследники, прежде чем воссядут на трон, сами не станут папашами и не обзаведутся своими собственными наследниками. Поняла или нет? Царь-папаша — миролюбец, а его сынок — юнкер. Так и вертится это колесо издревле и будет, верно, еще долго-долго крутиться.
Короче говоря, сербский наследник[294] хотел и до сих пор продолжает хотеть войны с болгарами. Между нами говоря, давно бы уже разразилась война из-за турецкого наследства, как я тебе о том не раз писал, а из той войны вылезла бы, верно, еще одна война, побольше, а из этой последней — еще одна, великая, именно что великая война — в общем, что тебе объяснять, одним словом, весело!.. Счастье еще, что «мы» время от времени вмешиваемся и приглашаем всех четырех балканских президентов[295] в Петербург, чтобы они договаривались между собой и доверяли друг другу. Это, однако же, не нравится сербскому наследнику. Его зовут Александр. Ему сил нет как хочется воевать, из кожи вон лезет, прямо помирает без войны. В конце концов, нате вам, получайте уступки! Но наследник со своими сторонниками старается изо всех сил: «Не нужно нам никаких уступок! Проучим болгар, чтобы не лезли в Македонию! Получили Адринополь — и хватит с них!..» Но есть у сербов и другой толк, который как раз стоит за мир. И глава этого толка — министр Пашиц[296][297]. Он — министр-президент, как у «нас», например, Коковцов[298]. Но если наследник хочет войны, что с этим можно поделать? Рассудил так министр Пашиц и говорит «Прощевайте!»[299]. Но царь Петр[300] рассудил иначе — он ведь миролюбец, как все папаши, — и не хочет отпускать министра. Тогда этот Пашиц и говорит: «Знаете что? Давайте послушаем, что скажет дума». (У них это называется не дума, а скупщина.)
Вот тут и случилось то великое собрание в скупщине, о котором я тебе толкую, и на этом собрании все были за Пашица, то есть за то, чтобы он остался министром. И коль скоро Пашиц остается министром, то он поедет в Петербург[301]. Так что, Бог даст, будет мир. Поняла, наконец?
Вот так вот, дорогая моя супруга, выглядит то, как ведутся дела на свете. Это колесо фортуны. И его крутят умные люди. Совсем, не рядом будь помянуто, как у нас в те славные годы, когда шли раздоры между тальненскими и ржищевскими хасидами[302]. Из-за пустяка, кажется, из-за «как говорит» или «и да взрастит он спасение»[303] мог начаться величайший скандал. Те, кто в этом не разбирается, простонародье то есть, чуть не до смертоубийства доходили. Что это за «как говорит»? Как это «и да взрастит он спасение»?.. А свои, то есть те, которые были своими людьми у ребе, они-то знали, что это все пустяки. А народ пусть себе кипятится и кипятится, пусть хоть совсем выкипит. Так и тут… Там у вас в Касриловке, когда приходит газета и вы читаете о телеграммах из Софьи и из Белгорода, вы наверняка думаете, что вот-вот начнется драка, и пугаетесь до смерти. А мы, находящиеся рядом с достоверными источниками, читающие сообщения прежде, чем их отдадут в печать, мы знаем, что все не так опасно. А с другой стороны? Наследник-то рвется? Ему-то хочется войны? Ничего, ему будет хотеться до тех пор, пока не перехочется… Уже было несколько ужасных сообщений о том, что стреляют. Хаскл Котик даже успел порадоваться, когда прочел эти сообщения. «Ну, — говорит он мне, — где же, реб Менахем-Мендл, ваш мир?» Говорю я ему: «Положитесь на меня, реб Хаскл, мир — это мир». А он снова мне говорит: «Что вы этим хотите сказать? Вы что, не слышите, что стреляют?» — «Не слышу, — говорю я, — а если вы слышите, значит, — говорю я, — у вас очень тонкий слух…» Он сердится, он человек невероятно вспыльчивый, и сует мне газету прямо под нос: «Нате, читайте, нате, глядите, вот из Лондона пишут, что сербы отбили несколько городов… Нате, читайте, дальше пишут, что их собрание, то, которое было у сербов, совершеннейшая дрянь. Утверждают, что будет еще одно собрание… А вот пишут, что на границе слышна стрельба…» — «Те-те-те, — говорю я ему, — я это все читал, и, между прочим, раньше вас, я все-таки работаю в редакции, — говорю я, — поверьте же мне, реб Хаскл, что стрельба в газетах — это не то же самое, что стрельба порохом. Это пока что стреляют, — говорю я, — корреспонденты, которым нужно заработать. Не бойтесь, если начнется, — говорю я, — настоящая стрельба, вы не пострадаете». Говорит он: «Прикусите язык. Вы такой человек, который любит все перетолковывать». Говорю я: «Напротив, я по натуре человек мирный, а перетолковывать — это ваша специальность…» Слово за слово, мы как следует ссоримся, я беру тросточку и уже хочу вернуться в редакцию, и тут он мне говорит: «Что это вы так заторопились, реб Менахем-Мендл? Давайте, — говорит он, — отложим политику в сторону, пропади она пропадом, давайте лучше поговорим о наших делах…»
Он имеет в виду наши собственные еврейские дела: думу, депутатов, эмиграцию, сионизм, теритаризм — слава Богу, есть о чем поговорить. Но поскольку у меня нет времени, так как, кажется, тот человек, которого я разыскиваю, уже давно уехал из Америки и со дня на день приезжает в Варшаву, буду краток. Если на то будет воля Божья, в следующем письме напишу обо всем гораздо подробней. Дал бы только Бог здоровья и счастья. Будь здорова, поцелуй детей, чтобы они были здоровы, передай привет теще, чтобы она была здорова, и всем членам семьи, каждому в отдельности, с наилучшими пожеланиями
от меня, твоего супруга
Менахем-Мендла
Главное забыл. Что ты на это скажешь, дорогая моя супруга? Хаскл Котик-то нынче оказался прав: стреляют и в Салониках, и в Иштибе[304], и в других местах. Я представляю, как этот человек нынче сияет от радости! Теперь ведь и не зайдешь к нему в молочное кафе на Налевках.
Вышеподписавшийся
(№ 142, 04.07.1913)
21. Шейна-Шейндл из Касриловки — своему мужу Менахем-Мендлу в Варшаву.
Письмо девятое
Пер. В. Дымшиц
Моему дорогому супругу, мудрому, именитому наставнику нашему господину Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!
Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, пребываем в добром здравии. Дай Бог, чтобы вести от тебя к нам были не хуже.
Во-вторых, пишу тебе, дорогой мой супруг, о том, что должна еще раз сказать тебе, можешь сердиться, меня это не трогает, но ты пишешь не о том, о чем нужно писать. Будь так добр, скажи мне, прошу тебя, предположим, все будет так, как ты пишешь: каждому еврею дадут по бесплатному железнодорожному билету и по сотне на человека, и что? Можно ли полагаться на заграницу? Я имею в виду не столько саму заграницу, сколько агентов с благотворителями[305], с благодетелями этими, немцами[306], которые живут по ту сторону границы, погром бы на них, Господи, чтобы они тоже почувствовали вкус изгнания!.. Прочти, Мендл, письма, которые мы здесь, в Касриловке, получаем от мигрантов, я тебе так скажу: от этих писем и камень бы разрыдался. Просто конец света, да и только! Ни справедливости, ни милосердия, ни Бога, ничего. Как говорит мама: «В Писании сказано, с тех пор как разрушен Храм, сердца людские — камень, а лбы — медь…» Чего, например, можно ждать в Кинисберге, в Гамбуре и в Бремеле[307] от твоих немцев, чтоб их черт побрал, если они прикидываются жандармами и обращаются с нашими касриловскими мигрантами хуже, чем наши родные кишиневские хулиганы?[308] Послушай, ради интереса, что пишут дети Меира Копелева. Уж год, как они уехали в Америку и пропали, как в воду канули. Здесь их уже оплакали, думали, что их и на свете-то давно нет. В конце концов является почтальон с письмом от них, но не из Америки, а из Кинисберга, чудное письмо — горе горькое их родителям, что дожили до такого! Как говорит мама: «Хорошо тому, кто в земле лежит и не видит того, что творится под небом…» Я чуть не полчаса плакала над этим письмом у Крейны, жены Меира Копелева, так прямо и села от потрясения, и вот переписываю для тебя слово в слово все, что в нем написано, чтобы ты увидел и понял со своими немцами, постигни их внезапно холера, чтобы они постигли тебя, Господи, чтобы их там всех до одного разразило, от мала до велика, аминь! Аминь! Аминь! Теперь слушай, что пишут: