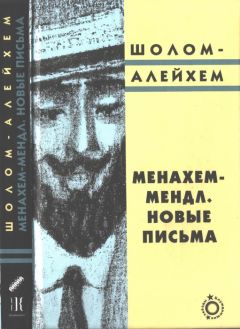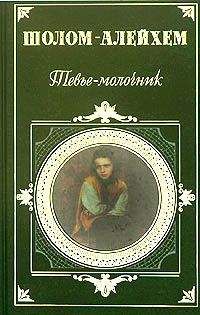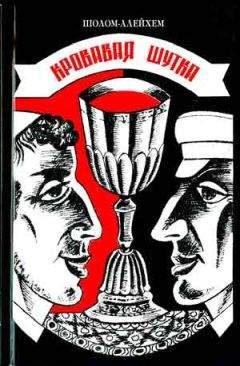от меня, твоего супруга
Менахем-Мендла
(№ 136, 27.06.1913)
19. Шейна-Шейндл из Касриловки — своему мужу Менахем-Мендлу в Варшаву.
Письмо восьмое
Пер. В. Дымшиц
Моему дорогому супругу, мудрому, именитому наставнику нашему господину Менахем-Мендлу, да сияет светоч его!
Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, пребываем в добром здравии. Дай Бог, чтобы вести от тебя к нам были не хуже.
Во-вторых, пишу тебе, дорогой мой супруг, о том, что не знаю, есть ли на свете город, в котором хотя бы слыхано было о таких горестях, которые мы переносим здесь, в Касриловке. То, что с нами давеча тут случилось, не бывало нигде и никогда с самого сотворения мира. Мы до сих пор живем в страхе. Бог послал нам пристава, настоящего Амана[286], и он хочет нам отомстить. И кто, по-твоему, виноват? Наши богачи. И даже не столько богачи, сколько эти бездельники, писаки, которые пишут в газетах. Делать им нечего, вот они и хватаются за каждую глупость, размазывают ее по листам и устраивают из нее, как говорит мама: «Цимес[287] на семи тарелках…» Если бы не они, ничего бы не случилось. Пристав, этот Аман, мог бы мордоваться, мордоваться и замордоваться. Но я выхватываю рыбу прежде, чем сеть вытащена, забыла, что надо же сначала рассказать тебе саму историю. А история эта хорошая, хоть и короткая. Могу все объяснить тебе в двух словах, если у тебя есть время выслушать меня до конца и ты можешь на минутку оторваться от своих великих дел с твоими турками, и с твоими царями, и с твоими миллионерами и вспомнить, что у тебя есть жена, до ста двадцати лет, которая, может быть, не умеет так бойко писать, как ее муж-писатель, но ведь историю-то сумеет рассказать и мужик в лаптях.
В общем, ты должен помнить сынка Лейви-глухого, Шлойме-Велвела-шарлатана. Он теперь черт знает что такое, богач с фаэтоном. Единственный такой богач и единственный такой фаэтон! Откуда у него все это взялось — никто не знает, кто говорит — от железной дороги, кто — из Егупца, кто — от карт. Так или иначе, он построил себе домишко на рынке, с палисадником, и с решетками на окнах, и с фонарем над крыльцом и привез из Егупца железный шкаф, десять мужиков едва втащили — весь город сбежался подивиться. Тут он начал величаться перед городом, раздавать милостыню не скупясь и так, чтобы все знали и все о нем говорили — Шлойме-Велвел то, Шлойме-Велвел се! Ну кто ж терпеть ровня этому сыну Лейви-глухого, когда никто не моги ему и слова сказать? Как говорит мама: «В Писании сказано, неизвестно нынче, кто завтра будет на коне…» А было бы неплохо, не правда ли? Захотелось ему почета от начальства, становится он своим человеком у нового пристава, которого нам прислали, и зовет его к себе в пятницу вечером на рыбу, раз зовет, и другой, и третий, да так, чтобы город это, значит, видел и проникался почтением. Не шутка, такой Аман — и ест рыбу у Шлойме-Велвела! Обмозговывает это дело Аман — тоже ведь не дурак, — берет и шлет с городовым Шлойме-Велвелу клетку со странной птичкой. Смотрит он, Шлойме-Велвел то есть, на птичку: что это такое? Говорит ему городовой: это попугай. Что за попугай? Говорит городовой: говорящая птица. Спрашивает его Шлойме-Велвел: а мне на что? Говорит ему городовой: это тебе пристав прислал в подарок. Радуется Шлойме-Велвел и спрашивает у городового: что мне с ним делать, с попугаем то есть? Говорит ему городовой: будешь его кормить и, прощенья просим, плати полтораста рублей и — пятерку за клетку. Тут уж Шлойме-Велвел удивляется: полтораста рублей? За что? Говорит ему городовой: за попугая. Тут Шлойме-Велвел прямо-таки впадает в ярость и говорит, что не даст и ста пятидесяти копеек. Говорит ему городовой: как тебе будет угодно! Поворачивается кругом и уходит, а попугая оставляет у Шлойме-Велвела. Берет он, Шлойме-Велвел то есть, запрягает фаэтон, мчится к приставу и в спешке забывает взять с собой птицу. Приезжает к приставу: твое величество, что ты мне послал? Говорит ему пристав: попугая. Спрашивает его Шлойме-Велвел: на что мне попугай? Говорит ему пристав: коль скоро у тебя такой домишко с крыльцом, и с фонарем, и с железным шкафом и ты разъезжаешь на фаэтоне, так тебе полагается иметь попугая… Говорит ему Шлойме-Велвел: да, но полтораста рублей? Говорит ему этот Аман: а ты как хотел, чтоб тебе даром подарили такую дорогую птицу? Говорит ему Шлойме-Велвел: прощенья просим! Она мне и даром не нужна, я бы ее и с приплатой не взял!.. Говорит ему пристав: послушай-ка, дескать, Шлойме-Волька[288], ты не знаешь, что это за птица — она, дескать, умеет говорить любое слово как человек… Говорит ему Шлойме-Велвел: она может говорить, сколько влезет, мне она в доме не нужна! Аман уже сердится и грозит ему пальцем: гляди, Волька, пожалеешь… Говорит ему Шлойме-Велвел: не пожалею!.. Говорит ему пристав: коли так, ты у меня тогда заплатишь не сто пятьдесят рублей, а пятьсот десять. Говорит ему Шлойме-Велвел: посмотрим! Говорит ему пристав: посмотрим… Хлопает Шлойме-Велвел дверью, садится в фаэтон и едет домой. Ты, верно, думаешь, что на этом дело кончилось? Погоди, история только начинается.
Вернувшись домой в раздражении, видит Шлойме-Велвел у себя полон дом, полное крыльцо и полный двор народу. Мужчины, женщины и дети. Что такое? Что эта толпа тут делает? Ничего. Просто сошлись подивиться, как птица говорит любое слово как человек. Мы, я и мама то есть, тоже там были, пришли послушать, как птица говорит любое слово как человек, но, кроме «Попка дурак!», ничего больше не слышали. Но эти слова птица произносила-таки как человек. Мама говорит: «В Писании сказано, у каждого зверя и у каждой птицы есть свой язык, только человек их не понимает… Поэтому, — говорит она, — я бы не хотела, чтобы у меня была дома такая птица за мои грехи. Человек, — говорит она, — который молчит, и птица, которая разговаривает, оба никуда не годятся…»
В общем, видя у себя столько народу, он, я имею в виду Шлойме-Велвела, еще больше взбеленился и как закричит: «Что сбежались, эка невидаль? Попугая, что ли, не видели?..» Что тут скажешь? Можно подумать, что он у своего отца Лейви-глухого никаких других птиц, кроме попугаев, не видел. Ну, мама ему и выдала! Она ему напомнила, что знавала еще его отца и была с ним на «ты», хоть и был он человек небогатый… И кроме того, добавила: «В Писании сказано, быка ценят не за длинные рога, свинью — не за жесткую щетину, а человека — не за легкие рубли, потому что их и потерять недолго…» Это ему, Шлойме-Велвелу то есть, кажется, здорово не понравилось, и он напустился на нас: «В Писании сказано, чтобы шли вы себе домой подобру-поздорову…» И мы пошли домой. Но он таки взвалил на себя груз, от которого был бы рад избавиться и за два раза по полтораста рублей, да поздно. Теперь ему и сам пристав не смог бы помочь. Приехал к нам из губернии чиновник тщательно расследовать, правда ли, что пристав со скандалом навязывал еврею попугая и вымогал у него полтораста рублей?.. Чуть не триста свидетелей показало, что это правда, как Бог свят. Полагали, что этого парня, пристава то есть, посадят. Однако же пристав говорит, что посадят его или нет — это вопрос, но за то, чтобы в городе не было погрома, он теперь не отвечает… Уж Аман знает! Напали всем городом на Шлойме-Велвела: из-за вас с вашим попутаем должен теперь случиться погром? Тут он, Шлойме-Велвел то есть, заявляет: а я чем виноват? Виноваты газеты. Если бы, дескать, газеты не раструбили это дело на весь свет, я бы с приставом, дескать, как-нибудь договорился, и городу нечего было бы бояться… Может, он, Шлойме-Велвел, и прав. Как ты думаешь, что хуже? Или, Бог даст, избавимся от Амана, или пусть остается, но его нужно будет так подмазать, чтобы он забыл про попугая, чтоб им всем, приставу с попугаем то есть, и с Шлойме-Велвелом-шарлатаном в придачу, и газетам с их писаками-бездельниками помереть в муках так, как тебе желает всего доброго и всяческого счастья твоя воистину преданная тебе жена
Шейна-Шейндл
А то, что ты пишешь о миграции[289], чтобы, кроме железнодорожных билетов, выдали по сто рублей на душу, так это был бы очень даже неплохой план, и расчет, который ты сделал, очень даже неплохой расчет, — как говорит мама: «Расчет хорош, а денег нету». Одно плохо, что ты слишком разбрасываешься. Не успеют разобраться с планом, который ты выдал, как у тебя уже готов новый план. Очень хорошо с твоей стороны, дорогой мой супруг, что ты заботишься обо всем еврейском народе, но тебе бы стоило разок подумать и о своей жене, и о своих собственных детях. Какой смысл в такой твоей жизни, и в таком твоем изгнании, и в таких твоих странствиях по свету? Но ты и в ус не дуешь! Что тебе жена? На что тебе дети, когда ты теперь сват Ротшильду и Бродскому, а в голове у тебя только войны, турки и министры? Как говорит мама: «Сыграй жениху плач…»[290]