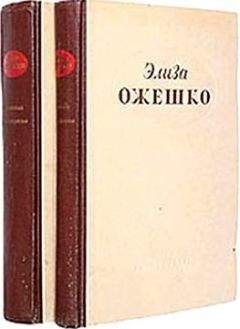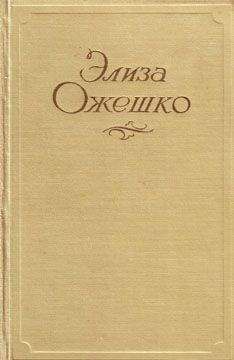Когда умолк хриплый, клокочущий и вместе с тем певучий голос старухи, Петруся тихонько проговорила:
— Бабуля!
— А что?
— Этот Прокопии в самом деле воровал лошадей?
Старуха задумчиво ответила:
— Может быть, крал, а может, и не крал. Это неизвестно. Доказательства не было… но у людей было подозрение и страшный гнев…
— Страшный! — как эхо повторила женщина, стоявшая перед огнем, и быстро-быстро начала бросать в пламя остаток сухих трав.
Немного спустя старуха заговорила опять:
— Петруся!
— А что, бабушка?
— Чтобы ты с этого времени не смела больше давать советы…
— Не буду… — ответила молодая женщина.
— Никому… помни! Хотя бы там не знаю как тебя просили. Слышишь?
— Не забуду, бабушка….
— Будь такой тихонькой, как рыбка на дне, чтобы люди забыли о тебе.
— Хорошо, бабушка…
Двери отворились, и вошел кузнец. Взглянув на него, Петруся сейчас же закричала:
— Ой, боже ж мой! Что с тобой случилось, Михайло?
Действительно, с ним, должно быть, случилось что-то очень скверное. Лицо у него было рассерженное, один глаз вспух, а на щеках и на лбу было несколько синяков. Он снял шапку со всклокоченной головы и, бросив ее на стол, сердито прогнал от себя детей, которые проснулись и подбежали к нему. После этого он сел на скамейку и, повернувшись к жене, заговорил слегка охрипшим голосом:
— Случилось со мной то, чего еще никогда в жизни со мной не было. Был я солдатом и шесть лет таскался по свету, а никогда ни с кем не дрался; здесь живу и хозяйничаю семь лет, и люди уважали меня всегда, потому что я сам себя уважал. А вот сегодня подрался с мужиками перед корчмой. По твоей вине, Петруся, это со мной случилось. Фу, стыд… горе… да и только!
Он плюнул и, отвернув от жены лицо, закрыл ладонью припухший глаз. Она молчала и, стоя перед огнем, смотрела на него широко раскрытыми глазами, опустив руки. Немного помолчав, он начал опять:
— Я разговаривал с шинкарем о деле… Вдруг слышу мужики перед корчмой говорят о тебе, что ты виновна в болезни Клементия Дзюрдзи, Семен Дзюрдзя кричал это; Яков Шишка, этот известный вор; и Степан подошел потом и говорил то же самое; и бабы, что возвращались с картофельных полей, остановились и тоже, как вороны, каркать начали: и такая она, и сякая, у коров молоко отняла, а теперь отравила Клементия. Слушал я, слушал… наконец не выдержал: вылетел из корчмы и начал с ними ссориться из-за тебя. Слово за слово, дошло до драки. Я бил, меня били… Эх! Стыдно! Работаешь, как батрак, ведешь себя хорошо, людей и самого себя уважаешь, вдруг, неизвестно откуда, свалится на тебя позор… Что это? Приятно слышать, как жену называют ведьмой и чортовой любовницей, а потом носить на лице следы кулаков пьяниц и воров! Ой, боже ж мой, боже! За что мне такой позор и горе!
Сквозь его жалобы и стыд прорывалась обида на жену. Она все время молчала, испугавшись до того, что у нее дрожали руки, когда она вытягивала из печи горшок с едой. Не поднимая глаз, она зажгла лампу и поставила на стол ужин. Когда она, как всегда, подавала мужу хлеб и нож, он, закрыв ладонью опухший глаз, другим внимательно посмотрел на нее.
— Петруся! — сказал он. — Что ты сделала людям, что они на тебя напали, как вороны на падаль?…
Она слегка пожала плечами.
— Разве я знаю? — шепнула она.
— Ведь не может же быть без причины? — спросил он еще раз.
Женщина, которую расспрашивали таким образом, погрузилась в глубокую задумчивость.
— Разве я знаю? — повторила она.
Очевидно, она сама не могла понять загадки своей судьбы и не была уверена, что причина этого явления не кроется в ней самой. Несмотря на эту неуверенность, всякая другая рассыпалась бы в опровержениях, клятвах, оправдывая себя и обвиняя людей. Жили они между собой душа в душу, как два чистые, текущие рядом, ручья. А теперь она солгала бы, если бы сказала ему, что в чем-нибудь уверена, ведь внутри ее зарождался страх — не столько перед людьми, сколько перед чем-то неопределенным, таинственным, грозным.
— Разве я знаю? — повторила она и отвернулась от мужа.
На лбу его образовались две глубокие складки. Он смотрел на нее и, как бы удивляясь чему-то или над чем-то грустно раздумывая, покачал раза два головой. Затем он подозвал к себе детей; к ней же ни разу больше не обращался и, ни разу в этот вечер не назвал ее кукушечкой. Недовольный и молчаливый, он лег спать; мрак и тишина обняли избу; уж около полуночи среди тишины послышался звук человеческих шагов и кто-то вскарабкался на печь:
— Бабушка! Бабушка! Ты спишь?
На печи раздался шопот, в котором ясно слышался ужас:
— Не сплю, дитя, не сплю! Все о тебе думаю… — ответила Аксинья, к которой вместе со старостью пришли и бессонные ночи.
— Бабушка! — жалобно проговорил другой голос, — что-то меня сегодня ужасно душило… так душило, что я чуть-чуть не отдала богу душу…
— Что это? — удивилась старуха и немного спустя спросила:
— Может быть, ты в святое воскресенье делала что-нибудь, чего нельзя делать?
— Не делала, бабушка… ничего такого я в воскресенье не делала.
— Припомни только… может быть, делала! Потому что, если делала, значит к тебе приходило воскресенье и душило тебя за то, что ты его оскорбила… Такие вещи бывают на свете… я сама знала такого человека, что всегда все делал в воскресенье. Вот раз воскресенье пришло к нему, такое большое, как золотое солнце, легло на него и задавило… до смерти задавило. Припомни: не делала ли ты, упаси боже, чего-нибудь в воскресенье?
— Не делала, бабушка!.. Вот побожусь, что никогда не делала ничего в воскресенье.
— Ну так что же это душило тебя?
После этого вопроса воцарилось глубокое молчание. Но вот молодой и испуганный голос едва слышно прошептал в темноте:
— Бабушка! Я слышала, что когда чорт пристанет к кому-нибудь, то тоже душит…
На печи внезапно что-то зашелестело: может быть, это слепая бабка выпрямилась на своем сеннике.
— Перекрестись, дитя, перекрестись святым крестом…
— Во имя отца, и сына, и духа святого. Аминь.
Помолчав, строгая Аксинья прошамкала еще:
— Горе это тяжелое душило тебя, Петруся ты моя, горе и печаль.
— Да, да! — утвердительно прошептал другой голос.
— Что-то Михаил был сегодня недоволен и сердит.
Зима пришла ранняя и суровая. В последние дни ноября мороз сковал землю, и снег осыпал ее белым пухом. Вечернее небо было усеяно множеством звезд, когда по дороге в Сухую Долину, очевидно возвращаясь из ближайшего местечка, шли в деревню два мужика. Оба они были невысокого роста, но один был совсем низенький; в бараньих тулупах, шапках и скрипучих сапогах, они шли то медленно и слегка пошатываясь, то быстрым и размашистым шагом, очень громко разговаривая между собой и ожесточенно размахивая руками. Они были не вполне трезвы. Далеко разносились их грубые голоса, которым вторил громкий и неровный топот их шагов. Из слов их, ясно и звонко раздававшихся в тихом морозном воздухе, можно было угадать, что они возвращались из местечка, где оба были у мирового судьи.
— Мировой говорит, штраф за это заплатить… — говорил один.
Другой же, не слушая товарища, одновременно с ним тянул:
— Долг — святое дело, говорит, заплатить нужно.
— Деревья, говорит, рубил в панском лесу, срубил шесть штук, говорит, за каждую штуку заплатишь по рублю штрафу… — А если долгу не заплатишь, говорит, то опишут землю и продадут… — Не продадут! — говорю я, потому что еще не выкуплена, от правительства, значит, не выкуплена.
Теперь другой начал:
— А я в мировой съезд… пошел к Хацкелю и велел ему писать просьбу в мировой съезд… Пиши, говорю я ему, «гапеляцию», чтобы мне этого штрафу не платить…
А первый опять:
— Я к старшине!.. А что из этого будет?.. Должен я шинкарю, и другим людям я должен, и теперь они подают на меня в суд. Суд приказывает заплатить, а земля не выкуплена, от правительства, значит, не выкуплена… и продать ее нельзя… Кабатчик нехристь, подлая его душа, сейчас же спрашивает: — А сколько дашь за то, что напишу? — Злотый дам, говорю я, пиши! — Он смотрит мне в глаза и смеется… — Рубль дашь? — говорит. — Не дам, говорю я, ей-богу не дам… тридцать копеек дам… А он: — Рубль дашь?.. — Я обещал, ей-богу, обещал рубль… Чтоб его черти!..
А тот, который заботился о своих просроченных долгах, рассказывал дальше, слегка покачиваясь:
— Узнал я у старшины, ой, узнал… чтоб его… Земли не опишу, говорит он, потому что нельзя, еще не выкуплена, а хозяйство опишу за долги, да и продам, с публичного торгу, значит, продам, в одних рубахах останетесь… зачем было долги делать?
Вдруг они оба остановились и начали смотреть друг другу в лицо.
— Яков! — сказал один.
— Семен! — ответил другой.