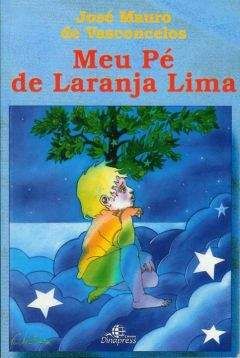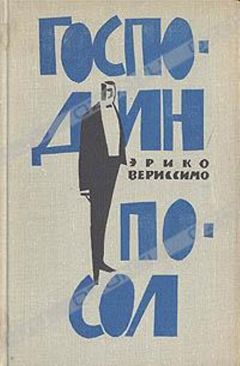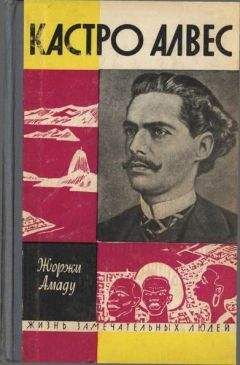— Ты куда идешь, Зезé?
Слезы омочили мое лицо.
— Иду туда.
— Ты не должен идти.
Я выкручивался, как сумасшедший, но не смог освободиться от его рук.
— Успокойся, сынок. Я не отпущу тебя туда.
— Значить Мангаратиба убил его…
— Нет. Скорая помощь уже приехала. Только машину сильно разбило.
— Вы меня обманываете, дон Ладислао.
— Зачем мне тебя обманывать? Разве я тебе не сказал, что поезд наехал на автомобиль? Так вот, когда его можно будет посещать в больнице, то я возьму тебя, обещаю. А сейчас пойдем, выпьем прохладительного.
Он вытащил платок и вытер мне пот.
— Меня немного тошнит.
Я оперся об стену, и он помог мне, держа за голову.
— Тебе лучше, Зезе?
Я мотнул головой, что да.
— Я отведу тебя домой, хочешь?
Я помотал головой, что нет, и пошел медленно, в полном замешательстве. Я знал всю правду.
Мангаратиба никого не прощает. Это был самый сильный поезд из всех. Меня вырвало еще два раза, и видел, что это уже никого не беспокоит. Что уже никого нет в моей жизни. Я не вернулся в школу, шел, куда направляло меня сердце. Время от времени, я всхлипывал и вытирал лицо рубашкой от школьной формы. Никогда больше, я не увижу своего Португу. Никогда больше, он ушел. Я шел и шел. Остановился на шоссе, где он разрешил называть себя Португой и усадил меня на свою машину, чтобы я сделал «летучую мышь». Я сел на ствол дерева и весь сжался, поддерживая лицо коленями. Меня охватила такая сильная тревога, что я даже не ожидал.
— Ты очень плохой, Мальчик Иисус. Я думал, что на этот раз родиться Бог, а ты мне такое делаешь! Почему ты меня не любишь, как других детей? Я вел себя хорошо. Больше не дрался, учил свои уроки, перестал говорить непристойности. Даже «задница» не говорил. Почему ты это сделал со мной, Мальчик Иисус? Скоро срубят мое дерево апельсина-лима, так я даже не рассердился. Только поплакал немного… А теперь… А теперь…
Новый поток слез.
— Я опять хочу своего Португу, Мальчик Иисус. Ты должен мне его вернуть…
Голос мягкий и сладкий обратился к моему сердцу. Наверное, это дружеский голос дерева, на котором я сидел.
— Не плачь, мальчуган. Он ушел на небо.
Когда уже завечерело, я был обессиленный, даже не мог вырвать или плакать, сидел у порога дома доньи Елены Вилья-Боас, где нашел меня Тотока.
Он говорил со мной, но я только мог стонать.
— Что с тобой, Зезé. Скажи мне, что случилось. Но я только тихо стонал. Тотока положил руку на мой лоб.
— Ты горишь от жара. Что случилось, Зезé? Идем со мной, пошли домой. Я помогу тебе идти потихоньку. Я нашел силы сказать ему между стонами:
— Оставь меня, Тотока. Я больше не пойду в этот дом.
— Да, ты пойдешь. Это наш дом.
— У меня там ничего нет. Все закончилось.
Он попытался помочь мне подняться, но увидел, что у меня не хватает сил. Я обхватил руками его шею, и он понес меня на руках. Вошел в дом и положил меня на кровать.
— Жандира! Глория! Где все? Он нашел Жандиру беседующей в доме Алайде.
— Жандира, Зезé очень болен. Она пришла ворча.
— Наверное, опять ломает комедию. Пара хороших шлепков…
Однако Тотока, вошел в комнату.
— Нет, Жандира. На этот раз он очень болен и умирает…
В течение трех дней и ночей я был без сознания. Меня пожирала лихорадка, а при попытке дать мне поесть или выпить наступала рвота. Я таял и таял. Часами, я лежал без движения, уставившись на стену.
Я слышал, что говорили вокруг меня. Я все понимал, но не хотел отвечать. Не хотел говорить. Думал только о том, чтобы пойти на небо.
Глория перешла жить в мою комнату и проводила ночи рядом со мной. Она даже не позволяла гасить свет. Все стали проявлять доброту. Даже Диньдинья провела несколько ночей с нами.
Тотока сидел целыми часами с выпученными глазами и иногда говорил мне:
— Это было вранье, Зезé. Можешь мне верить. Было свинство. Они не будут расширять улицы ни за что…
Дом погрузился в тишину, словно смерть была уже в двух шагах. Никто не шумел. Все говорили тихим голосом. Мама, почти каждую ночь находилась рядом со мной. Но я не мог забыть его. Его хохот. Его отличающееся произношение. Даже звуки сверчков, там снаружи, копировали скрип бритвы по его бороде — трак, трак, трак. Я не мог прекратить думать о нем. Теперь я понял, что такое боль. Боль не от того, что получаешь удары вплоть до потери сознания. Не от того, что порезал ногу куском стекла и даже не от наложения швов в аптеке. Боль, это то, что наполняет сердце, тем, от чего люди должны умереть, не имея возможности раскрыть свою тайну. Боль это то, что отдается слабостью в руках, в голове и даже попытке повернуть голову на подушке.
Состояние ухудшалось. Мои кости выступали из кожи. Позвали врача. Пришел доктор Фаульхабер и осмотрел меня. Ему не потребовалось много времени выяснить все.
— Это был шок. Очень сильная травма. Он выживет, только если переборет этот шок.
Глория вывела врача наружу и рассказала ему:
— Это действительно был шок, доктор. С тех пор как он узнал, что срубят его дерево апельсина-лиму, он в таком состоянии.
— В таком случае, необходимо его убедить, что это неправда.
— Мы уже пытались всякими способами, но он не верит. Для него его деревце апельсина-лима, это человек. Он очень странный ребенок. Очень чувствительный и преждевременно развитый.
Я все выслушивал, но продолжал терять интерес к жизни. Хотел идти на небо, но живые туда не идут.
Приобрели лекарства, но меня по-прежнему рвало.
В это время произошло нечто чудесное. Улица пришла в движение, чтобы проведать меня. Забыли то, что я был черт в образе человека. Пришел дон «Нищета и голод» и принес торт «Мария-моль». Негритянка Еугения принесли мне яйца и помолилась над моим животом, что я перестал рвать.
— Сын дона Пабло умирает…. Мне говорили приятные вещи.
— Ты должен выздороветь, Зезé. Без тебя и твоих проделок на улице стало скучно.
Пришла навестить меня и донья Сесилия Пайм, она принесла мой портфель из школы и цветы. И только лишь это заставило меня снова заплакать.
Она рассказала, как я вышел из класса, но она знала только это.
Было очень грустно, когда пришел дон Альворадо. Я узнал его голос и притворился, что сплю.
— Вы подождите, пока он не проснется. Он сел и начал разговаривать с Глорией.
— Послушайте, донья, я прошел по всем углам спрашивая ваш дом, пока не нашел его.
Он с силой всхлипнул.
— Мой ангелочек не может умереть. Не дайте ему умереть, донья. Это для вас он брал у меня буклеты, нет?
Он почти не дал Глории ответить.
— Не дайте умереть этому мальчику, донья. Если с ним что-нибудь случиться, я никогда более не приеду в этот несчастный пригород.
Когда он вошел в комнату, то сел рядом с кроватью и держал мою руку на своем лице.
— Смотри, Зезé. Ты должен выздороветь, чтобы петь со мною. Я почти ничего не продаю. Все спрашивают: «Эй, Ариовальдо, где твой кенарчонок?». Ты обещаешь мне, что вылечишься, обещаешь?
Мои глаза еще имели силы наполниться слезами, и, зная, что мне нельзя было больше волноваться, Глория проводила дона Альворадо к выходу.
Мне становилось лучше. Я уже мог кое-что глотать и питать свой желудок. Только, когда вспоминал, поднималась температура и возвращались рвотные позывы, с дрожью и холодным потом. Иногда, сам того не желая, мне виделся Мангартиба, летящий и разламывающий его. Я просил Мальчика Бога, если я, хоть иногда имел для него значение, чтобы он ничего не почувствовал.
Приходила Глория и водила своими руками по моей голове.
— Не плачь, Гум. Все это пройдет. Если хочешь, я отдам тебе все свое дерево манго. Никто никогда его и пальцем не тронет.
Но для чего мне старое дерево манго, без зубов, которое уже не знает, как давать плоды? Даже мой саженец апельсина-лима скоро потеряет свое очарование, превратившись в дерево, как и любое другое…. И это, если ему дадут время, бедняжке.
Как некоторым легко умереть! Достаточно, чтобы пришел проклятый поезд, и готово. А как трудно уйти на небо мне! Все держат меня за ноги и не дают идти.
Доброта и настойчивость Глории достигли желаемого, и я стал немного разговаривать. Даже папа перестал уходить вечером. Тотока, так похудел от угрызения совести, что Жандире пришлось дать ему по шапке.
— Разве не хватит нам одного, Антонио?
— Тебе бы на мое место, чтобы почувствовать это. Ведь это я ему рассказал об этом. Все еще чувствую на своем животе его лицо плачущее, плачущее…
— Но ты не начнешь тоже плакать. Ты уже почти мужчина, а он будет жить. Оставь эти штучки и пойди, купи мне банку сгущенного молока в «Нищете и голоде».
— Тогда дай мне деньги, потому что папе уже больше не доверяют…
Слабость вызвала у меня продолжительную сонливость. Я уже не знал, когда был день, а когда ночь. Температура постепенно спадала, а мои конвульсии и дрожание начали удаляться.