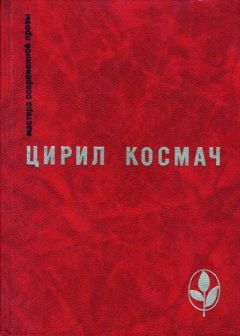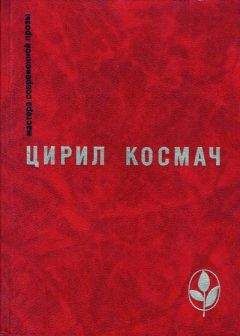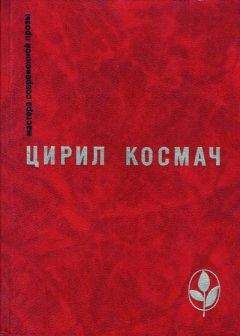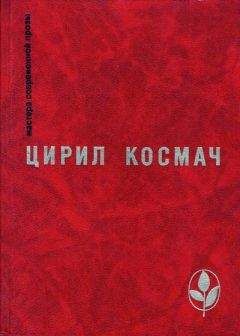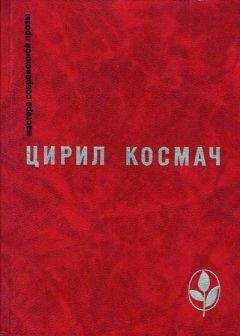— Дети, помолимся!..
И мы молились, пока убирали мокрый хлеб. Вечером мы досыта наелись крошек с черным ячменным кофе, легли и заснули счастливые. Дед и мама всю ночь и потом еще два дня топили печь, сушили хлеб, перебирали его и складывали в пустовавшие закрома в амбаре.
На четвертый день к нам пришел кадет. Оказалось, что он живет в одном из тех бараков, которые построили на нашем поле, — красивом двухэтажном доме с украшенным резьбой крыльцом и верандой. Барак стоял позади конюшен, на уступе холма.
— Pëkný dúm[23],— сказал кадет. И так как мы, дети, дружно уставились ему в рот, он начал подыскивать словенское слово и как бы ловил его рукой в воздухе. Потом он взглянул на деда, усмехнулся и сказал — Pëkný — schön[24].
— Ясно, ясно! Шеен, шеен — красивый барак, красивый, — закивал дед.
— A-а, красивый? — тотчас подхватил кадет. — Красивый! Красивый! — еще два раза повторил он и тряхнул головой, словно для того, чтобы слово улеглось в ней понадежней.
Мы, ребята, тем временем весело повторяли: «Пекни дом, пекни дом!» — и с того дня только так и называли барак, в котором квартировали офицеры.
Кадет зашел и на следующий день. Был он красивый, юный и такой славный, что моя трехлетняя сестренка немедленно вскарабкалась к нему на колени и стала теребить золотую цепочку у него на шее. Кадет вытащил из-под рубашки висевший на цепочке медальон и показал его нам. В медальоне были две маленькие овальные фотографии — пожилой женщины, его матери, и молодой девушки с венком на голове, его невесты. Медальон посмотрела наша мама, и даже дед нацепил очки и одобрительно прогудел что-то себе под нос. Прощаясь, кадет дал нам плитку шоколада и обещал заглянуть еще. И в самом деле, он начал заходить регулярно. С дедом он по-настоящему подружился. Они часами беседовали, помогая себе жестами, а потом дед пересказывал нам содержание разговора.
— Умный парень… и из благородной семьи. Чуть ли не граф, — сказал он, держа трубку во рту и многозначительно задрав подбородок.
— Значит, у него есть замок? — спросили мы со старшей сестрой.
— Насчет этого я еще не пытал, — раздумчиво сказал дед. — Но если и вправду граф, то замок должен быть… Во всяком случае, большое поместье и дом. Большой, с два Модрияновых, а может, и с три…
В моей детской фантазии вмиг возникла картина кадетовой усадьбы: широкая зеленая долина, по которой, мягко изгибаясь, спокойно течет широкая зеленая река; над рекой — просторная зеленая терраса, и на ней, утопая в темной зелени раскидистых вековых деревьев, стоит белый дом под красной черепичной крышей. Когда мы с дедом описали кадету эту картину, он добродушно рассмеялся и сказал, что живет в городе, который называется Брно.
— Во дворце? — широко раскрыл я глаза.
— Нет, нет. Просто в большом доме.
Я был порядком разочарован. Хотя жизнь в городе, по моим понятиям, тоже была хороша, картина — усадьба в парке, — сложившаяся в моем воображении, была столь прекрасна, что я предпочитал представлять себе обиталище кадета именно таким.
Время шло. Кадет навещал нас почти каждый вечер. Он приносил объемистые посылки, которые получал от матери и красивой невесты с фотографии в медальоне. Таких толстых пластов сала я отродясь не видывал. Кадет отрезал порядочный ломоть деду, а нам давал по большому куску рулета с маком, которого мы до той поры тоже не видали. Кадет просил маму хранить эти посылки у себя, чтобы в «Пекном доме» их не украли. Он приходил в сумерки, сам доставал из буфета тарелку, нарезал на ней сало мелкими кубиками и ел почти с благоговением, которое мне было вполне понятно: ведь все эти вкусные вещи пришли с его родины, из красивого большого дома в широкой, тихой, зеленой долине. Когда он однажды собрался сам помыть тарелку, случилась беда: тарелка выскользнула у него из рук, упала на пол и разлетелась на три части. Кадет ругнулся про себя и вынул из кармана кошелек. Он спокойно положил на стол ассигнацию, а потом странно усмехнулся, точно в голову ему пришла злая мысль. Нагнувшись, он быстро подобрал осколки, составил их, придерживая обеими руками, так что тарелка казалась целой, посмотрел на деда и маму и серьезно сказал:
— Это Австрия.
Потом разжал руки, так что тарелка снова упала на пол и снова разлетелась, указал пальцем на осколки и голосом, полным злого торжества, сказал:
— Это Австрия завтра…
Мы все удивленно следили за его действиями. Первым зашевелился дед. Он сплюнул в коробку с опилками и мрачно сказал:
— Австрия — не тарелка!..
— Тарелка, тарелка! — сердито затвердил кадет и стал совать деньги то деду, то маме, а они отказывались брать.
Так прошла зима. Начало выглядывать солнце, выманившее нас из-за печи. Снова мы босиком носились по зеленой лужайке, по-ребячьи радуясь весне. Он становился все задумчивее и молчаливее. Нередко я видел его на дворе у Войнаца, но ни разу не видал, чтобы он заходил в дом. Он сидел под орехом и пробовал завязать разговор с Юстиной и старым Войнацем. Мне это нравилось. Дома я, конечно, об этом не рассказывал, во-первых, потому, что никогда не признавался, что сам был у Войнаца, а во-вторых, потому, что боялся, как бы дед не запретил кадету бывать у нас.
Земля в своем вращении все больше приближалась к солнцу; отогрелось и упрямо полезло на свет божий все зеленое, что еще не было вытоптано солдатскими сапогами и конскими копытами.
Мы с мамой пололи картошку на полоске своего поля, уцелевшей между бараками и конюшнями. Мы выдергивали тот живучий, называемый «солдатским» бурьян, который приносит с собой войско, и оттаскивали его подальше от поля, за густую живую изгородь. Работа была нетрудная, но до того скучная, что я обрадовался даже Трнаровой Катре, возвращавшейся с Шентвишкогорья, где она скупала по хуторам масло и яйца и потом перепродавала эту редкую по тогдашним временам снедь втридорога. Она была огромного роста, толстая, невероятно неопрятная и грязная, а ленивая настолько, что лень ее вошла в наших местах в поговорку, как и вспыльчивость нашего деда. Мама вечно ее ругала и уговаривала хоть изредка умываться и менять белье, не то, мол, на ней черви заведутся и съедят ее живьем, как того толминского графа, который истязал своих крепостных. Катра вытирала слезы, которые почти постоянно ползли по толстой морщинистой коже ее обвислых щек, и плаксиво, со своей странной манерой выражаться божилась, будто умывается почти каждый день. И хотя она вызывала у меня прямо-таки отвращение, я находился в некоторой зависимости от нее. Несмотря на то что Катра считалась слабоумной, она была по-своему довольно сообразительна; заметив мою страсть к чтению, она обратила эту страсть себе на пользу. Катра просила меня — как и других ребят — поднести ее кошелку. Я отбояривался до тех пор, пока однажды она не заявила, что в качестве вознаграждения даст мне почитать книжку, которой я наверняка еще не видел. Она привела меня в свою мрачную, затхлую комнату. На низком сундуке рядом с позолоченным распятием под стеклянным колпаком лежало пять книг, а именно: «Большой сонник», «Корейские братья», «Хедвика, невеста бандита», «Ринальдо Ринальдини», о котором иногда упоминал дед, путавший этого разбойника с Гарибальди, и «Черная женщина», показавшаяся мне особенно заманчивой, так как была очень толстая, в черном коленкоровом переплете и с рисунками. Я тотчас принялся ее перелистывать, но Катра отобрала у меня книгу, встала перед сундуком во весь свой гигантский рост и сказала, что сначала мы должны сторговаться. Она выдвинула условие, чтобы за каждую ссуженную книгу я десять раз отнес ее кошелку от нашего дома до Темниковой усадьбы, которая была в пяти минутах ходьбы за усадьбой Войнаца. Мы стали торговаться и в конце концов сошлись на семи разах. Разумеется, моя мама ничего не знала об этом уговоре, так как мы с Катрой из понятных соображений о нем умалчивали.
Теперь Катра остановилась в конце поля, поставила кошелку на землю и застыла в неподвижности, ни дать ни взять забытая копна наполовину сгнившего сена. Она почти никогда не присаживалась, точно боялась, что не сможет потом поднять свое грузное тело.
— Где ты ходила-то? — спросила мама.
— По Гребням ходила-хаживала… — ответила Катра на своем оригинальном наречии с повторяющимися глаголами и местоимениями, которому мы, дети, с удовольствием подражали, пока мама не начала нас пугать, что мы станем говорить так же, если не прекратим это немедленно.
— Ну, и купила что-нибудь?
— Купила кое-что, купила… — простонала Катра и захныкала.
— Так чего же ты плачешь?
— Да как же мне, это, не плакать-то!.. Я, это, проголодалась и захотела этих, как их, вареников. Две миски их наварили, наварили на Гребнях-то. Съесть мы их не могли, не могли съесть-то. Уж я плакала-плакала…