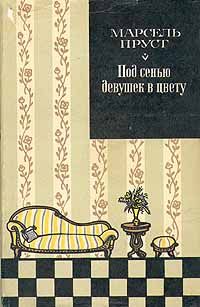У Зоологического сада мы выходили из экипажа, и до чего же я бывал горд, когда шагал рядом с г-жой Сван! Она шла небрежной походкой, манто у нее развевалось, я бросал на нее восхищенные взгляды, а она кокетливо отвечала на них долгой улыбкой. Когда мы встречали кого-нибудь из знакомых Жильберты, мальчика или девочку, они кланялись нам издали, и теперь уже они смотрели на меня с завистью, как на друга Жильберты, знакомого и с ее родными, причастного к той ее жизни, что протекала не на Елисейских полях.
В аллеях Булонского леса или Зоологического сада с нами часто здоровались знатные дамы — приятельницы Свана, и когда Сван не замечал их, ему указывала на них жена: «Шарль! Вы что, не видите? Это госпожа Монморанси». И Сван с приветливой улыбкой, к которой его приучили долгие годы близкого с ними знакомства, снимал шляпу широким жестом, с присущей ему одному элегантностью. Иные останавливались, им было приятно сказать г-же Сван любезность, которая ни к чему их не обязывала и которой она наверняка не воспользовалась бы, ибо Сван приучил ее держаться в тени. Впрочем, это не помешало г-же Сван приобрести светский лоск, и, как бы дама ни была элегантна и величественна, она ей не уступала; остановившись на минутку, она знакомила нас, Жильберту и меня, с приятельницей мужа так просто, в ее приветливости было столько непринужденности и спокойствия, что трудно было сказать, кто из них знатная дама: жена Свана или прогуливавшаяся аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалезцев, на возвратном пути нам встретилась пожилая, но все еще красивая дама в темном манто, в шляпке, подвязанной на шее ленточками, сопровождаемая двумя другими дамами, как бы составлявшими ее свиту. «Вот с кем вам будет интересно познакомиться!» — сказал мне Сван. Пожилая дама была уже в трех шагах от нас и обворожительно-ласково улыбнулась. Сван снял шляпу, г-жа Сван присела в реверансе и хотела было поцеловать руку даме, точно сошедшей с портрета Винтергальтера, но та подняла ее и поцеловала. «Да наденьте же шляпу!» — сказала она Свану грубым голосом и, на правах близкой знакомой, слегка ворчливо. «Позвольте вас представить ее высочеству», — обратилась ко мне г-жа Сван. Затем Сван отвел меня в сторону, а в это время г-жа Сван говорила с ее высочеством о погоде и о новых животных в Зоологическом саду. «Вы знаете, — сказал Сван, — принцесса Матильда — приятельница Флобера, Сент-Бева, Дюма. Вы только подумайте: она — племянница Наполеона Первого! Ее рушь просили Наполеон Третий и русский император. Разве это не интересно? Поговорите с ней. Одно плохо: простоишь тут из-за нее целый час. Я встретил Тэна, — обратился Сван к даме, — он мне сказал, что принцесса поссорилась с ним». — «Он форменная свинья, — резким тоном сказала дама, произнеся последнее слово так, как» если бы это было имя какого-нибудь епископа времен Жанны д'Арк. — После его статьи про императора я отказала ему от дома». Я смотрел на нее с тем изумлением, какое вызывает переписка герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской. В самом деле, принцесса Матильда выражала свой французский патриотизм с присущей старой Германии простосердечной грубостью, которую она, вне всякого сомнения, унаследовала от матери, уроженки Вюртемберга. Когда же она улыбалась, ее грубоватую, почти мужскую откровенность смягчала итальянская томность. И все это облегал туалет, до такой степени выдержанный во вкусе Второй империи, что, хотя принцесса, разумеется, носила его из любви к старинным модам, казалось, будто она старательно избегает исторических ошибок и стремится оправдать ожидания тех, что ждут от нее воскрешения старины. Я шепотом попросил Свана узнать у нее, была ли она знакома с Мюссе. «Очень мало, мсье, — ответила она с таким видом, будто вопрос Свана рассердил ее, и, уж конечно, она назвала его „мсье“ в насмешку: ведь они же были близкие друзья. — Один раз он у меня обедал. Я позвала его к семи часам. В половине восьмого мы сели за стол без него. В восемь он явился, поздоровался со мной, уселся, не проронил ни единого звука, а после обеда ушел, так что я его голоса не слыхала. Он был мертвецки пьян. После этого у меня отпала охота продолжать знакомство». Мы со Сваном стояли в сторонке. «Надеюсь, наша беседа не затянется, — сказал он, — а то у меня пятки болят. Зачем моя жена поддерживает разговор? Не понимаю! Потом сама же будет жаловаться на усталость, а я просто не выношу этих стояний». Г-жа Сван как раз в это время пересказывала принцессе то, что сама узнала от г-жи Бонтан: правительство поняло наконец, что поступило по-хамски, и решило послать принцессе приглашение быть послезавтра на трибуне во время посещения царем Николаем Дома инвалидов. Но принцесса, несмотря на то, как она себя держала, несмотря на то, что окружала она себя главным образом художниками и литераторами, в сущности оставалась племянницей Наполеона, которая напоминала о себе всякий раз, когда принцессе нужно было действовать. «Да, как раз сегодня утром я получила приглашение и отослала его министру — наверно, он уже его получил. Я ответила, что не нуждаюсь в приглашении, чтобы ходить в Дом инвалидов. Если правительство желает, чтобы я присутствовала, то я буду, но не на трибуне, а в нашей усыпальнице, у гробницы императора. Для этого пригласительные билеты мне не нужны. У меня есть ключи. Я туда вхожу, когда хочу. Правительство должно только поставить меня в известность, угодно ему мое присутствие или нет. Но если я буду присутствовать, то только там, и больше нигде». В это время нам — г-же Сван и мне — поклонился, не останавливаясь, молодой человек: я не знал, что она знакома с Блоком. На мой вопрос г-жа Сван ответила, что его представила ей г-жа Бонтан, что служит он в министерстве, — для меня это было новостью. Впрочем, она, по-видимому, встречалась с ним не часто, а может быть, ей не хотелось называть не очень «шикарную», с ее точки зрения, фамилию Блок, — как бы то ни было, она переименовала его в Мореля. Я стал уверять ее, что она ошибается, что его фамилия — Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней трен, которым любовалась г-жа Сван. «Русский император как раз и прислал мне эти меха, — сказала принцесса, — и я хочу ему показать, что они пошли мне на манто». — «Я слышала, что принц Людовик зачислен в русскую армию, — могу себе представить, ваше высочество, как вам тяжело, что он не с вами», — молвила г-жа Сван, не замечавшая знаков нетерпения, какие ей делал муж. «Он сам этого хотел! Я же ему говорила: „Это не нужно: в твоей семье уже был один военный“, — сказала принцесса, с грубым простодушием намекая на Наполеона I. Свану не стоялось на месте: „Ваше высочество“! Я позволю себе воспользоваться вашей привилегией и попрошу вас разрешения откланяться: дело в том, что моя жена очень плохо себя чувствует, и ей вредно так долго стоять». Г-жа Сван опять сделала реверанс, а принцесса одарила нас божественной улыбкой, словно извлеченной ею из прошлого, из очарования своей молодости, из компьенских вечеров, и после того, как эта улыбка, ласковая, непритворная, пробежала по ее лицу, только что выражавшему неудовольствие, она удалилась вместе с двумя фрейлинами, которые, подобно переводчицам, боннам или сиделкам, в виде знаков препинания расставляли в нашем разговоре незначащие фразы и ненужные объяснения. «Вам не мешало бы расписаться у нее на этой не деле, — сказала мне г-жа Сван. — У всех этих royalties. как их называют англичане, углы визитных карточек н загибают, но если вы распишетесь, она вас к себе пригласит».
Кое-когда в эти последние зимние дни мы заходили; перед прогулкой на какую-нибудь из небольших выставок, которые тогда открывались и где Свану, известному коллекционеру, с особой почтительностью кланялись продавцы картин, устраивавшие эти выставки у себя. И в это еще холодное время года прежние мои мечты о поездке на юг и в Венецию оживали при виде зал, где уже наступившая весна и жаркое солнце бросали лиловатые отблески на розовые отроги Альп и придавали Canale grande темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы шли в концерт или в театр, а потом заходили куда-нибудь выпить чаю. Когда г-же Сван нужно было что-тo сказать мне так, чтобы не было слышно за соседними столиками и чтобы не слыхали официанты, она говорила, со мной по-английски, как будто только мы двое и знали этот язык. Между тем на нем умели изъясняться все, кроме меня, и я вынужден был признаваться в этом г-же Сван для того, чтобы она перестала делать насчет тех, кто пил чай, или тех, кто его разносил, не слишком лестные, насколько я мог догадаться, замечания, которые оставались непонятными мне, но из которых ни единого слова не пропадало для тех, в кого она метила.
Однажды в связи с утренним спектаклем Жильберта привела меня в крайнее изумление. Это было как раз в тот день, о котором она мне говорила еще раньше на который приходилась годовщина смерти ее дедушки. Мы, — она, ее гувернантка и я, — собирались послушать сцены из оперы, и Жильберта ради этого принарядилась, сохраняя, однако, равнодушный вид, какой у нее обычно появлялся, когда мы предпринимали что-нибудь такое, что, по ее словам, было совершенно безразлично ей, но могло доставить удовольствие мне и заслужить одобрение родителей. Перед завтраком г-жа Сван отвела нас с ней в сторону и сказала, что отцу будет неприятно, если в такой день мы пойдем в концерт. Мне это было вполне понятно. У Жильберты был все тот же безучастный вид, она только побледнела от злости и не сказала ни слова. Когда вышел Сван, Одетта отошла с ним в дальний угол гостиной и что-то прошептала ему на ухо. Он позвал Жильберту и увел в соседнюю комнату. Оттуда послышались громкие голоса. Я не мог допустить, чтобы Жильберта, послушная, ласковая, благоразумная, не исполнила просьбу отца в такой день и из-за таких пустяков. Наконец Сван, выходя из той комнаты, сказал ей: