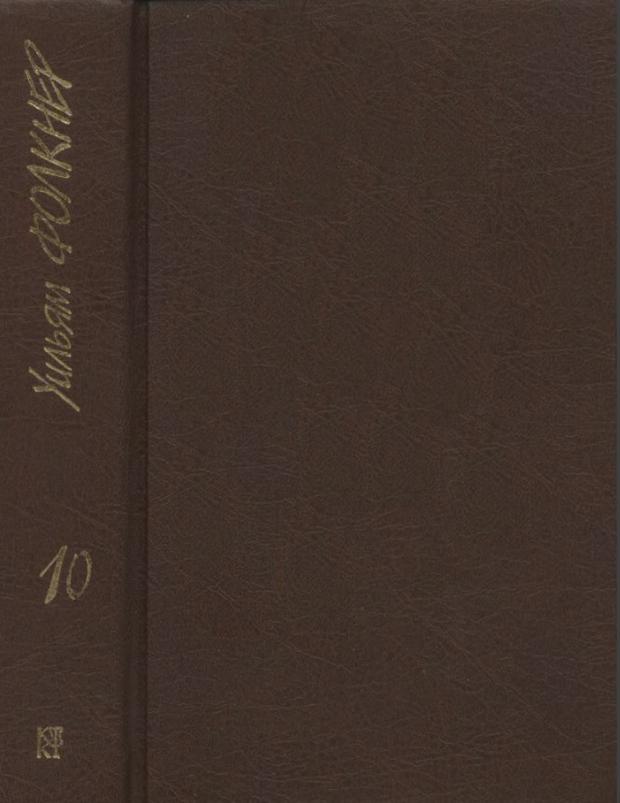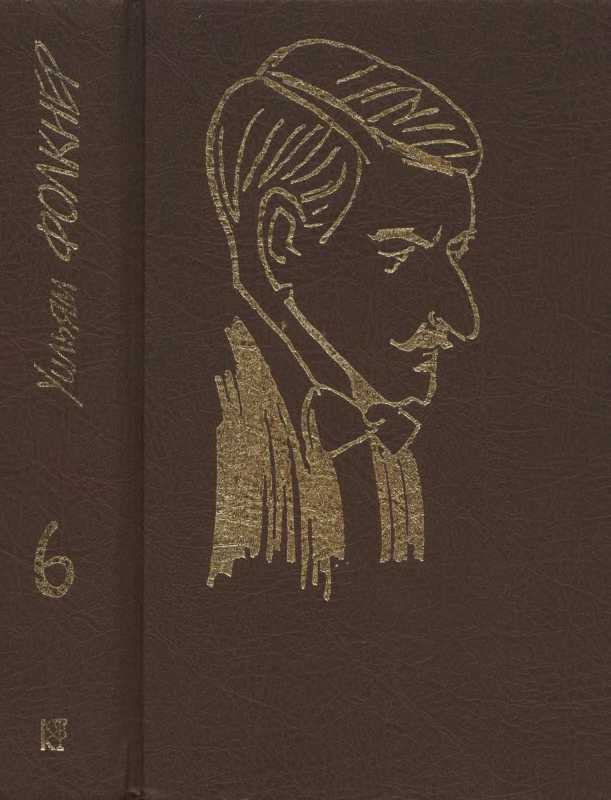пока перед ними не возникло то, что некогда было домом старого хозяина — расползшаяся не меньше чем на пол-акра громада колонн, флигелей и балконов.
Они поспели вовремя. Капитан Гуальдрес, вероятно, вышел из боковой двери как раз в ту минуту, когда фары их автомобиля осветили подъездную дорожку. Во всяком случае, они увидели, что он уже стоит в лунном свете, а когда они втроем вышли из машины и подбежали к нему, он все еще стоял там с непокрытой головой, в короткой кожаной куртке и в сапогах, а на руке его болтался тонкий хлыстик.
Разговор начался по-испански. Три года назад он, Чарльз, записался в школе на факультативный курс испанского языка и сам позабыл, да в сущности так и не понял, как и почему он за это дело взялся, точь-в-точь как прежде это сделал дядя, и в результате ему, Чарльзу, пришлось изучать испанский, к чему он вовсе не стремился. Никто его не убеждал и не уговаривал, да и дядя говорил, что никого не надо уговаривать сделать то, что ему хочется или нужно, и совсем неважно, знал ли он тогда, что это ему нужно или со временем понадобится, или не знал. Возможно, его ошибка заключалась в том, что он имел дело с юристом; во всяком случае, он все еще изучал испанский, прочел «Дон Кихота», мог читать большую часть мексиканских и южно-американских газет и даже начал «Сида» [100], но только это было в прошлом году, а прошлый год был 1940 годом, и дядя сказал:
— Почему? «Сид» будет легче «Дон Кихота», потому что он про героев.
Но он не смог бы объяснить никому, тем более человеку пятидесяти лет, и даже собственному дяде, как трудно утолить духовную жажду запыленной хроникой прошлого, когда всего в полутора тысячах миль, в Англии, мужчины не многим старше его самого ежедневно пишут своей кровью бессмертный комментарий к его эпохе.
Поэтому он понимал почти все, что они говорили, и только иногда испанская речь становилась для него слишком быстрой. Но ведь и для капитана Гуальдреса английская речь тоже иногда становилась слишком быстрой, и один раз ему даже показалось, что они оба — и он и капитан Гуальдрес — не поспевают за испанской речью дяди.
— Вы идете кататься верхом, — сказал дядя. — При луне.
— Но разумеется, — сказал капитан Гуальдрес, все еще вежливо, все еще лишь слегка удивленно, лишь слегка приподняв свои черные брови, — так вежливо, что голос его вовсе не выдавал удивления, и даже в тоне его голоса совсем не слышался вопрос (в той форме, в какой мог бы задать его испанец): «Ну и что?»
— Я — Стивенс, — проговорил дядя все так же быстро, а это, как он, Чарльз, понял, было для капитана Гуальдреса гораздо хуже, чем просто быстро, — ведь для испанца быстрота и резкость, наверно, самый тяжкий грех, но в том-то и беда, что теперь совсем не оставалось времени, у дяди не было времени что-нибудь сделать, и он мог только говорить. — Это — мистер Маккалем. А это — сын моей сестры Чарльз Мэллисон.
— Мистер Маккалем я знаю хорошо, — сказал по-английски капитан Гуальдрес; он повернулся, и перед ними блеснули его зубы. — У него есть один великий лошадь. Печально. — Он пожал руку мистеру Маккалему, неожиданно, быстро и крепко. Но даже и при этом он казался бронзовым изваянием, хоть на нем была мягкая поношенная, блестевшая в лунном свете кожаная куртка, а волосы были намазаны бриллиантином, словно весь он — волосы, сапоги, куртка и все прочее — был отлит из металла, причем из одного цельного куска. — Молодой человек — не так хорошо. — Он и ему, Чарльзу, пожал руку — тоже быстро, коротко и крепко. Потом он отступил назад и на этот раз руки не протянул. — И мистер Стивенс не так хорошо. Тоже печально, быть может.
И в тоне его голоса опять не прозвучало: «Вы теперь можете принести свои извинения». В нем даже не прозвучало: «Что вам угодно, господа?» И лишь сам голос, в высшей степени учтиво, в высшей степени холодно, без всякого нажима, произнес:
— Вы приехали кататься верхом? Сейчас нет лошадь здесь, но на маленький сатро [101] много. Мы идем поймать.
— Подождите, — сказал дядя. — Мистер Маккалем и так каждый день видит столько лошадиных задниц, что ему навряд ли сегодня вечером захочется покататься верхом, а сын моей сестры и я видим их слишком мало и тоже не хотим кататься. Мы приехали сделать вам одолжение.
— О… — сказал капитан Гуальдрес, тоже по-испански. — И это одолжение?
— Ладно, — сказал дядя, все еще быстро, стремительной скороговоркой родного языка капитана Гуальдреса, звучного, не очень музыкального, как звон частично отожженного металла: — Мы очень торопились. Быть может, я приехал так быстро, что мои хорошие манеры не могли за мной угнаться.
— Такая вежливость, которую человек может перегнать, — сказал капитан Гуальдрес, — принадлежала ли она ему когда-нибудь? — И добавил почтительно: — Какое одолжение?
И он, Чарльз, тоже подумал: «Какое одолжение?» Капитан Гуальдрес не шевельнулся. В его голове ни разу не прозвучало ни тени недоверия или сомнения, а теперь в нем не было даже удивления. И он, Чарльз, готов был с ним согласиться: ведь с ним может произойти все что угодно, от чего дяде или кому-нибудь другому придется его предостеречь или спасти; и ему, Чарльзу, представилось, как не одна только лошадь мистера Маккалема, а целый табун ей подобных топчут его копытами, валяют в пыли и в грязи, а может, даже кусают или мнут ему бока — но не более того.
— Пари, — сказал дядя.
Капитан Гуальдрес не шевельнулся.
— В таком случае просьба, — сказал дядя.
Капитан Гуальдрес не шевельнулся.
— В таком случае одолжение мне, — сказал дядя.
— О, — сказал капитан Гуальдрес. Но он даже и тут не шевельнулся; он произнес одно-единственное слово, не по-испански и не по-английски, ибо оно звучало одинаково на всех языках, о каких он, Чарльз, когда-либо слышал.
— Вы едете верхом сегодня вечером, — сказал дядя.
— Истинно, — сказал капитан Гуальдрес.
— Позвольте пойти с вами в конюшню, где вы держите вашу ночную верховую лошадь, — сказал дядя.
Капитан Гуальдрес сделал движение, хотя всего лишь глазами, и он — Чарльз — и мистер Маккалем увидели, как сверкнули белки капитана Гуальдреса, когда тот взглянул на него, потом на мистера Маккалема, потом опять на дядю, а потом он больше не шевелился, совсем не шевелился, казалось, даже перестал дышать, и это длилось так долго, что он, Чарльз, успел