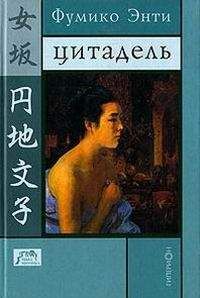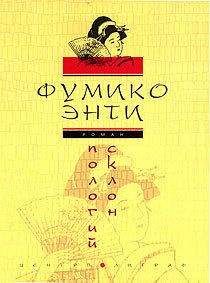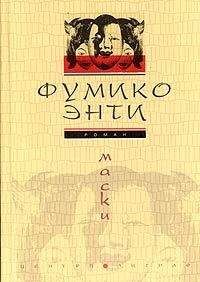Полупустая комната в японском стиле, отделанная ценными породами дерева и украшенная изысканными бамбуковыми шторами, после приезда Такао разительно преображалась, становясь вдруг тесной и захламлённой. На полу валялись груды японских и английских книг, не помещавшихся на полках, стол драгоценного красного дерева пестрел чернильными пятнами… Однако Томо приходила от такого бедлама в неописуемый восторг. Ей казалось, что творческий беспорядок свидетельствует о страсти к учёбе. Сама Томо с трудом могла читать иероглифы, подписанные фуриганой[58], и потому тратила все свои личные деньги на книги для внука, даже не спрашивая разрешения у Юкитомо. Желание Такао было законом. Когда купленные книги доставляли в комнату внука, Томо наблюдала с искренним восхищением, как он увлечённо листает новенькие издания. Так молодая мать любовно следит за своей юной дочерью, примеряющей красивое платье. Томо была борцом. Она не смирилась с тем, что её сын Митимаса так и не стал полноценным мужчиной. А вот его первенец Такао с малых лет отличался сообразительностью, блестяще учился и взлетал всё выше и выше, с честью выдерживая самые трудные испытания. Он возродил надежду в Томо и Юкитомо, уже не чаявших иметь достойных внуков по прямой линии. Такао вырос под крылышком дедушки с бабушкой, так что его успехи доставляли им особую радость.
Такао формировался в ненормальных условиях — без матери, без отца, в огромном доме деспотичного деда, державшего в страхе всех Домочадцев. При этом его безмерно баловали и потакали во всём бабушка, Суга и Маки, но всё равно мальчик вырос замкнутым и нелюдимым. Очки с толстыми линзами, худое лицо с орлиным носом, впалые щёки… В Такао не было и намёка на юный задор и свежесть…
— Наш молодой господин любит книги сильней, чем людей, — шушукались служанки, вышедшие из бедных кварталов Токио, где люди умели радоваться жизни. — И читает, и читает… и по-нашему, и по-заграничному… Каждый божий день! И что он только нашёл, в этих книжках… Как старичок какой-то…
Такао не обращал внимания на подобные разговоры. В сущности, он бы не смог отличить одну девушку от другой, настолько они были ему безразличны. Приезжая в дом деда, он затворялся в комнате и читал свои книги в гордом молчании. Однако никто не назвал бы его книжным червём. Ум у Такао был очень живой и быстрый, мальчик схватывал всё на лету. На лекциях делал краткие записи, а потом бегло пролистывал их, чтобы освежить в памяти. Он не ведал страха перед экзаменом. Все считали его усердным студентом, однако он зачитывался не учебниками: Такао глотал, повинуясь минутной прихоти, всё без разбору — романы и пьесы, труды по религии и философии.
В данный момент у него на груди лежал маленький томик с вытисненными на переплёте золотыми буквами — английский перевод трагедии Софокла «Царь Эдип». Он как раз перевернул последнюю страницу и теперь обдумывал прочитанное.
Эдипу было предсказано ещё в утробе матери, что он вырастет и убьёт родного отца, а потом совершит кровосмесительный грех с собственной матерью. Он едва не умер сразу же после рождения, но чудом выжил, стал правителем вражеской страны, завоевал отцовское государство, убил отца и взял в жёны мать. Он слишком поздно узнал о предсказании… В ужасе от содеянного, царь Эдип выколол себе глаза и побрёл по свету, искупая свои прегрешения. Греческая трагедия с её темой неотвратимости рока и безразличной, безжалостной кармы, напоминала буддийскую притчу об Аджаташатру или христианские апокрифы.
«Но даже теперь прелюбодеяние с матерью считается отвратительным… вне религиозного фанатизма и догм морали», — подумал Такао. Он вдруг почувствовал себя отчаянно одиноким, — ведь у него не было матери, к которой можно было бы испытать греховное чувство. Правда, была Мия, молодая красивая женщина, которую ему велели называть мамой, однако она переехала жить в другой дом. А уж к родному отцу — Митимасе — Такао не испытывал ни уважения, ни любви. Так его воспитали. Да, Мию и Митимасу он должен был называть матерью и отцом, но они были ему безразличны, как дальние родственники. Холодность деда и бабушки по отношению к Митимасе и неприкрытая ненависть Митимасы к сыну, обожаемому дедом и бабушкой, не по-детски ожесточили сердце Такао.
А теперь мачеха лежала в больнице, беременная восьмым ребёнком, и умирала от туберкулёза горла. Вчера дедушка с бабушкой сообщили Такао, когда он приехал домой на каникулы, что осталось недолго. Но это известие, по правде сказать, не вызвало в нём никаких эмоций.
Светлокожая Мия, чья плоть была так мягка и воздушна, что, казалось, вот-вот растворится, истает в воздухе, её оживлённый голос, весёлый смех и забавные шутки в общем были приятны Такао. Он никогда не испытывал ненависти — того жгучего чувства, что овладевает ребёнком при одном слове «мачеха». И всё же… Нет, её смерть не принесёт никаких перемен для Такао. Лишь одно обстоятельство, связанное с этим событием, трогало душу Такао. Рурико, его сводная сестра, будет очень горевать. Эта печально…
«Неужели я влюблён в Рурико? Или это просто братская любовь?» — Такао вспомнился царь Эдип, женившийся на собственной матери. Затем мысли снова перенеслись к Рурико, и тут Такао словно уткнулся в глухую стену.
Стоп. Как можно испытывать братскую любовь к сводным братьям и сёстрам, рождённым чужой женщиной и выросшим в её доме, если ты даже не жил там? В сущности, ко всем своим младшим братьям, сыновьям Мии — к Кадзуя, ходившему теперь в среднюю школу Кэйо, к Томоя и Ёсихико, — Такао испытывал такое же вежливое безразличие, как к сыновьям тёти Эцуко.
И только к Рурико, учившейся в пятом классе Токийской средней женской школы в Тора-но мон, его тянула необъяснимая сила. Ему всё время хотелось быть рядом с Рурико. Ближе, ещё ближе… Всё это было весьма странно. Такао знал, что его притягивает завораживающая красота девочки. Но он не мог понять другого, — влекла ли его абстрактная красота — как красивая музыка или цветок, или же красота Рурико-женщины, посеявшей в его одинокой душе зёрнышко первой любви.
В приступе непонятного раздражения Такао с неожиданной яростью скинул книгу на ручку кресла. Он устремил взгляд в небесную синеву, где пылающий солнечный диск угасал, катясь к горизонту. Потом рассеянно посмотрел на лужайку перед главным зданием усадьбы — и даже привстал от изумления.
— Рурико! Здесь?
Действительно, на лужайке стояла Рурико, которая, по его расчётам, сейчас как раз должна находиться в больнице. Рурико не догадывалась, что на неё смотрит Такао. Роскошные волосы волной ниспадали на плечи, и только несколько верхних прядей были уложены пышным валиком, венчая головку полной «маргариткой». Пучок скреплял радужно-синий бант из шёлкового газа, похожий на крылья цикады. На Рурико было летнее муслиновое кимоно с узором из лилий на белом фоне, повязанное красным оби. Она потерянно стояла у большого куста распускающегося мисканта и, похоже, плакала. Две огромные траурные бабочки «кавалер ксут» порхали над красными соцветиями, словно олицетворение отчаяния Рурико.
Скоро у неё не станет мамы, подумал Такао. При мысли о том, какое скорбное бремя обрушится на эти хрупкие плечи, Такао затопила волна сострадания.
— Рурико!
Не сознавая, что делает, Такао сжал ладонями перила веранды и неожиданно громко окликнул девушку.
Рурико даже не поняла, откуда идёт звук. Она подняла полные слёз глаза и огляделась по сторонам. Такао окликнул её ещё раз, — и только тут она увидела его, на веранде главного дома.
— Братец! — звонко и радостно крикнула Рурико. Девушка улыбнулась, хотя глаза её ещё были полны слёз, — и прозрачная вуаль окутывавшей её печали, легко соскользнула с юного тела.
— Я слышал, матушке хуже… Скверно. Ты когда пришла из больницы?
— Только что. Мама просит, чтобы дедушка к ней пришёл… Я хотела позвонить из больницы, но она непременно хотела, чтобы я сама его попросила…
— Вот как… И что он сказал? Он идёт прямо сейчас?
— Нет, сначала он пообедает, потом доктор Акияма сделает ему укол от невралгии. Он велел мне остаться сегодня здесь.
— Я тоже пойду с ним. Я хотел пойти ещё засветло, но нужно было просмотреть кое-какие конспекты. Мне их друг одолжил, он завтра домой уезжает, в деревню… — легко солгал Такао. Он смотрел на Рурико сверху вниз. Светлая, почти прозрачная кожа, словно не ощущающая жары, густые тёмные пряди волос, струящиеся вдоль тонкой шейки… — Я сейчас спущусь к тебе.
— Нет, лучше я к тебе поднимусь! У тебя там, наверно, прохладно? — Рурико сверкнула улыбкой и упорхнула, скрывшись за искусственной горкой. Такао опустился в кресло. На его худом лице играла скорбная улыбка. И тут же послышался звук лёгких шагов по лестнице. Ещё мгновение — и из-за угла веранды, огибавшей флигель, появилась сама Рурико.