Ричард Олдингтон - Парни из нашей деревни
На электронном книжном портале my-library.info можно читать бесплатно книги онлайн без регистрации, в том числе Ричард Олдингтон - Парни из нашей деревни. Жанр: Классическая проза издательство -, год 2004. В онлайн доступе вы получите полную версию книги с кратким содержанием для ознакомления, сможете читать аннотацию к книге (предисловие), увидеть рецензии тех, кто произведение уже прочитал и их экспертное мнение о прочитанном.
Кроме того, в библиотеке онлайн my-library.info вы найдете много новинок, которые заслуживают вашего внимания.
Название:
Парни из нашей деревни
Автор
Жанр
Издательство:
-
ISBN:
нет данных
Год:
-
Дата добавления:
15 декабрь 2018
Количество просмотров:
132
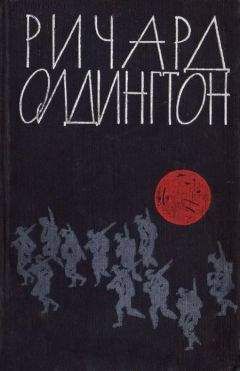
Ричард Олдингтон - Парни из нашей деревни краткое содержание
Ричард Олдингтон - Парни из нашей деревни - описание и краткое содержание, автор Ричард Олдингтон, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки My-Library.Info
"Хенсон пересек маленькое кладбище возле церкви и вышел через противоположную калитку. Он искал, где бы поесть, зная по опыту, что идеализм божьего храма в Англии обычно вполне уживается по соседству с пристойным материализмом трактира. На полпути от церкви к деревне он увидел небольшой продолговатый холмик с совсем еще новым памятником жертвам войны…"
Парни из нашей деревни читать онлайн бесплатно
Парни из нашей деревни - читать книгу онлайн бесплатно, автор Ричард Олдингтон


