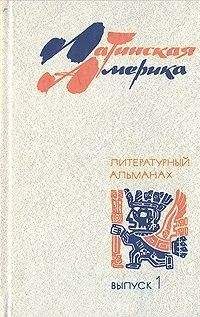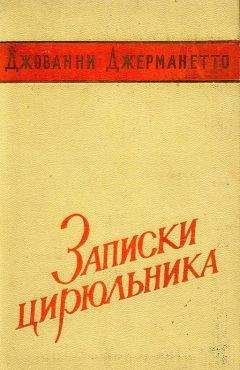Больные из «А-2» уже прошли. Подходит очередь Торстена. Каждый входящий в приемную называет свое имя. Аспирин, касторка и белые таблетки для успокоения нервов — вот стандартные средства лечения. Торстену даже интересно, что ему дадут проглотить.
Его сосед входит, хромая, в кабинет и рапортует:
— Заключенный Кольтвиц!
Это Кольтвиц! И как он сам не догадался? Торстен напряженно прислушивается к голосам в кабинете.
— Я внесу любой залог, господин фельдшер, если меня начнут по-настоящему лечить в больнице или клинике. Внесу залог, я не убегу. Правда, не убегу.
— Залог? Сколько вы думаете внести? Десять тысяч марок?
— Так точно, господин фельдшер!
— И пятьдесят тысяч можете?
— Так точно, господин фельдшер!
— У вас так много денег?
— У меня… у меня их нет, но… у меня богатые родственники.
— И вы думаете, они внесли бы за вас залог?
— Конечно, господин фельдшер. Они бы это сделали.
— Из этого ничего не выйдет, мой милый, мы не так продажны. Третья империя не Веймарская республика. Вероятно, вам известно, что прежде гамбургские миллионеры могли откупиться от тюрьмы, ну, скажем, к примеру, Витцен или Виценс, не знаю, как правильно. В Третьей империи такое невозможно. Мы не делаем никаких различий между имущими и неимущими. С тем, кто ведет подрывную деятельность против государства, мы обращаемся как с преступником, независимо от того, беден он или богат. Твои деньги, еврей, тебе уже не помогут.
— Я ведь не свободу хочу купить себе, — причитает Кольтвиц, — я хочу только, чтобы меня лечили, хочу попасть в больницу.
— Ты хочешь в больницу, потому что тебе здесь у вас не нравится, не так ли? Говори прямо!
— Я болен, господин фельдшер.
— Я дам тебе еще четыре таблетки. Одну на утро, одну на вечер; Увидишь, что помогут. Через несколько дней будешь, как новорожденный.
Кольтвиц хочет еще что-то сказать, но им настолько овладевает отчаяние, что он не находит нужных слов. Он стоит перед столом фельдшера и смотрит ничего не видящими глазами.
— Ну довольно, иди! Следующий!
— Заключенный Торстен.
— Торстен? Вы еще не были у меня? — Фельдшер разглядывает Торстена. — Вы давно здесь?
— Пять недель!
— А где вы помещаетесь?
— В подвале.
— В темной?
— Так точно.
— Хм… — соображает фельдшер. — Торстен?
Он снова испытующе всматривается в заключенного, который стоит перед столом, выпрямившись во весь рост.
— Ну, да! — наконец догадывается он. — Вы член рейхстага Торстен.
— Так точно.
— Так, так! Вы, следовательно, в некотором роде почетный гость нашего заведения. У нас ведь больше нет членов рейхстага… А у вас что?
— У меня больной желудок, и я не переношу черного хлеба.
— Больше вы ни на что не жалуетесь?
— Нет.
— Никаких желаний?
— Нет.
— Вы все еще коммунист?
Странно! Что за вопрос? Чего хочет от него фельдшер? Торстен смотрит на него с удивлением и не отвечает.
— Ну? — ухмыляется тот. — Ах, вы не решаетесь?
— Я не понимаю вашего вопроса. Вы серьезно думаете, что здесь можно быть «обращенным» в национал-социалиста?
Фельдшер смеется.
— Нет, этого я, конечно, не думаю. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить в такую возможность!
Торстен смотрит на фельдшера со все возрастающим недоумением. Он молод, как все остальные эсэсовцы, но занимает уже, по-видимому, высокий пост. Из-под воротничка белого докторского халата виднеются звездочки на лацкане. Фельдшер, улыбаясь, поглядывает на Торстена и пишет какой-то рецепт.
— Карл! — кричит он за дверь. — Карл!
Входит караульный, наблюдающий за больными в коридоре.
— Тех четырех из отделения «A-один» отведи, а этого я сам сдам.
Дежурный с четырьмя заключенными уходит. Фельдшер подходит к окну. Не оборачиваясь к Торстену, он спрашивает:
— Да, Торстен, тяжелая школа, не правда ли?
Торстену еще не ясно, что все это значит. Почему именно к нему так благосклонен фельдшер? Но пока считает благоразумным промолчать.
— Было время, и я колебался. Коммунизм или национал-социализм? — Он поворачивается к Торстену. — Ведь я был социал-демократом и состоял в Союзе рабочих санитаров. И наблюдал такие вещи, которые заставили меня отойти от этих организаций. Я не стану жертвовать собой для того, чтобы кучка бонз благодушествовала.
Он замолчал, глядя в окно на тюремный двор.
— …Вы не ожидали, что это будет так скоро и так всерьез, — продолжал он, — что Адольф Гитлер так легко захватит власть и так основательно наведет порядок, не так ли? Вы поставили не на ту лошадь и — проиграли?
— Но политика ведь не рысистые бега.
— Нет? Вы уверены? — Фельдшер ухмыляется. — Я… я не знаю, но, право, мне иногда кажется, что — да. Иногда ставят неудачно, иногда удачно. У меня всегда было верное чутье.
Фельдшер подходит к Торстену вплотную.
— Что бы сделали вы в прошлом году, если бы знали или хотя бы предполагали, что произойдет в этом году?
— Я это знал!
— Что-о?! Вы хотите сказать, что еще в прошлом году знали, что в тридцать третьем году к власти придут национал-социалисты?!
— Я не знал, конечно, этого наверняка, по шансы фашизма были очень велики. Надо уметь учитывать соотношение классовых сил на данный момент.
— И вы не сделали на основании своих знаний никаких выводов?
— Что вы под этим подразумеваете? Я ведь уже сказал: политика — не рысистые бега.
— Следовательно, вы хотите меня убедить, что вы шли к своему несчастью совершенно сознательно?
— К своему несчастью? Как так? Господин фельдшер, я коммунист, я веду борьбу за Германию социалистическую. Я марксист. До войны был социал-демократом и стал коммунистом, когда социал-демократы пришли к власти. Выходит, с вашей точки зрения, я уже тогда сознательно шел навстречу своему несчастью? Вам, по-видимому, было бы более понятно, если б я стал полицей-президентом или министром. Но я борюсь за победу рабочих, за социализм и не ставлю на любую лошадь, которая в данный момент имеет шансы на выигрыш.
— Но при этом вы сами можете погибнуть.
— Возможно. Но ведь до меня так было с тысячами, больше, чем с тысячами. Классовая борьба — дело серьезное.
Фельдшер как будто не расслышал последних слов.
— Лично я больше презираю социал-демократов, чем коммунистов. Коммунистов можно ненавидеть, социал-демократов нужно презирать. Это продажные людишки… Когда, по-вашему, наступит в Германии благоприятный момент для коммунизма?
Торстен улыбается. Этот неожиданный вопрос выдает все. Стоящий перед ним чернорубашечник не верит словам своего вождя Гиммлера.
— Вождь охранных отрядов Гиммлер недавно определил продолжительность господства национал-социализма в пятьдесят тысяч лет.
— Какая чушь! Кого можно поймать на такую удочку? Но скажите, как вы думаете, когда скипетр власти перейдет в ваши руки?
— Я не пророк, господин фельдшер… Если судить по экономическому и международному положению Германии, по настроению рабочих, то все, что сейчас происходит, не может продолжаться долго.
По лестнице поднимается Цирбес. Фельдшер обрывает разговор и идет ему навстречу.
— Скажи, мой арестант из темной еще у тебя?
— Да, я как раз собирался свести его вниз… У Торстена тяжелое желудочное заболевание. Постарайся уже сегодня раздобыть для него белый хлеб. Он должен его получать с завтрашнего дня.
К Торстену:
— Теперь идите с вашим дежурным.
Начальник лагерной канцелярии Харден и прикомандированный к ней начальник отделения Ридель входят в караульную. В комнате один Цирбес.
— Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! Сегодня освобождают восемнадцать человек, в том числе один из твоих.
— Как его зовут?
— Погоди-ка… — Харден перелистывает пропускные удостоверения. — Мизике! Готфрид Мизике.
— Что-о?! Эту сволочь, этого еврея выпускают? Черт знает что такое!
Цирбес искренне огорчен; он считает, что евреев принципиально не следовало бы выпускать из лагеря живыми.
Все вместе отправляются в камеру, где находится Мизике.
— Смирно! Отделение «A-один», камера два, сорок человек! Свободных коек нет!
Все заключенные знают Хардена, знают, что он приносит освобождение, и называют его «ангелом-избавителем». Они стоят, затаив дыхание, и каждый надеется, что вызовут непременно его.
— Готфрид Мизике!
— Здесь!
— Ну! Ну! Подойди-ка сюда!
Мизике подбегает к двери, останавливается перед тремя надзирателями и смотрит на «ангела-избавителя». От волнения у него спирает дыхание.
— Ну, Мизике, что бы ты сказал, если б тебя сейчас выпустили?
— О-ох, господин унтер-офицер!..
Больше Мизике не может ничего сказать, так как теперь он уже знает, что его выпустят. Освобожден! Свободен! Не надо будет больше стоять навытяжку, маршировать по двору, носить арестантскую одежду! Освобожден!