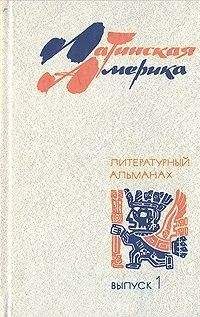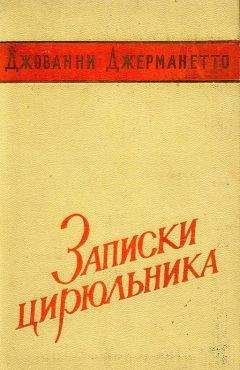— Готфрид Мизике!
— Здесь!
— Ну! Ну! Подойди-ка сюда!
Мизике подбегает к двери, останавливается перед тремя надзирателями и смотрит на «ангела-избавителя». От волнения у него спирает дыхание.
— Ну, Мизике, что бы ты сказал, если б тебя сейчас выпустили?
— О-ох, господин унтер-офицер!..
Больше Мизике не может ничего сказать, так как теперь он уже знает, что его выпустят. Освобожден! Свободен! Не надо будет больше стоять навытяжку, маршировать по двору, носить арестантскую одежду! Освобожден!
— Ну, собирай вещи! Только поскорее! Чтобы в две минуты был готов!
— Слушаю, господин унтер-офицер!
Мизике дрожит от радости. Харден и Ридель смеются. Цирбес гремит боцманским голосом:
— Прежде чем выйти, еще попрыгай три раза вокруг двора. Ну, так собирайся, мы сейчас вернемся!
Мизике окружают, желают ему счастья, завидуют. Двое снимают белье с койки и складывают тюремные вещи, и те из них, что получше, подмениваются худшими. Мизике должен дать расписку в том, что заказанные им папиросы и съестные припасы он передает в пользу камеры. Он отдает, все, без чего может обойтись. Из оставшихся у него пяти марок и сорока пфеннигов он оставляет себе сорок пфеннигов на дорогу, а пять марок отдает камере. Зубную щетку, принадлежности для бритья и расческу, которые ему за несколько дней до этого прислала жена, передает старосте Вельзену, чтобы тот распределил среди товарищей.
Придя в себя от радости, Мизике начинает смеяться, суетиться, трясет руки то одному, то другому, обещает выполнить все, о чем его просят, и никак не может насладиться своим счастьем.
Сейчас должен прийти за Мизике караульный. Ему так бы хотелось сказать несколько слов заключенным, с которыми он прожил вместе несколько недель! Когда нужно продать галстук, мужскую рубашку или носки, Мизике прекрасно говорит, но теперь, когда он хочет проститься со своими товарищами по заключению, с коммунистами, слова так и застревают в горле. Вместо прощальной речи он, заикаясь, обещает писать и посылать табак.
Как только Цирбес отворяет дверь. Мизике хватает свои вещи и, крикнув «До свиданья!», выбегает из камеры.
Двадцать минут спустя он уже за стенами лагеря и, далеко обогнав всех освобожденных, мчится в Ольсдорф, к станции надземной железной дороги.
За то, что выпустили еврея Мизике, должен поплатиться еврей Кольтвиц. Обертруппфюрер Мейзель никак не может взять в толк, почему, как он выразился, отпустили этого паршивого еврея.
— Вот увидишь, — говорит Мейзель Цирбесу, — того и гляди, скоро и этого Кольтвица выпустят. Я совсем не понимаю гестапо.
— Его не выпустят! — уверенно отвечает Цирбес. — Только не его.
— Но ведь это может случиться, и тогда уже ничего не поделаешь.
— Но я могу кое-что сделать, прежде чем это случится.
— Безусловно! И я тебе помогу. Знаешь, Дузеншен опять получил нахлобучку. Старшему кажется, что у нас все еще слишком миндальничают. Комендант знает, чего он хочет!
— Это потому, что он сидит ближе к правительству, чем эти старые дураки из гестапо. Комендант на несколько дней раньше узнает в Государственном совете, куда ветер дует.
Торстен передал соседу свой необычный разговор с фельдшером. Крейбель стучит в ответ, что фельдшер штурмфюрер и что его зовут Гейнц Бретшнейдер.
Эта ночь — самая ужасная из пережитых Торстеном в лагере. Четыре раза врываются в камеру над ним и избивают больного Кольтвица. Первый раз до двенадцати, а потом еще три раза — между полуночью и утром. На этот раз они дают ему кричать. Его звериный вой, причитания и крики заглушают свист плетей и хлопки ударов и разносятся по всей тюрьме.
Торстен думает о стоявшем впереди него тщедушном больном человеке, который не отваживался прошептать слово или даже пошевелить головой, вспоминает знаки, оставленные душителями на шее, высокий лоб, гладко выбритую голову. Всю ночь напролет Торстен не может уснуть. Не только он, но и Крейбель и сотни заключенных в эту ночь не находят покоя.
На следующий день, приняв дежурство от Цирбеса и потихоньку отдав табак в камеры № 1 и № 2, Ленцер заходит в одиночку к Кольтвицу. Тот дожит на койке, бледный, как покойник, уставившись широко открытыми глазами в потолок.
— Ну, Кольтвиц, что с вами?
Кольтвиц смотрит на Ленцера, молчит и снова переводит глаза на потолок. Подле Кольтвица лежит толстая веревка. Ленцер берет ее в руки и рассматривает.
— Это что за веревка, Кольтвиц?
— Это мне ее вчера подбросили. — Он говорит тихо, еле слышно, и слезы текут по лицу.
Ленцер ненавидит евреев, но этого он не может одобрить. Если Кольтвиц должен непременно умереть, то не таким образом: его надо просто пристрелить. Хорошенько вовремя всыпать — никогда, по его мнению, не мешает, но эта длительная порка, это избиение насмерть — гнусность.
— Кольтвиц, может, вам что-нибудь нужно? Хотите кофе? Хорошего, настоящего кофе?
Кольтвиц только слабо качает головой.
«Теперь в мое дежурство его больше не тронут!» — дает себе слово Ленцер.
Кальфактор Курт из отделения «А-1» убирает подвал. Он был в Винтерхудере в городском комитете и знает Крейбеля по политической работе. Если поблизости никого нет, он всякий раз подходит к двери его камеры и шепотом сообщает все новости. Хотя газеты в лагере строжайше запрещены, но время от времени они все же попадают в камеры то с бельем, то через посетителей. Кое-что узнают заключенные в общих камерах и от караульных. Когда караульные разговаривают между собой, кальфакторы тоже всегда навостряют уши.
— Вальтер!
— Да.
— Карл Дрекслер покончил с собой. В прошлый понедельник.
— И он?
— Да. И Ионни Райке и Отто Штенке тоже нет уже в живых.
— Курт!.. Курт!..
Кальфактора уже нет. Крейбель прижимается ухом к двери и с напряжением вслушивается в темноту.
Карл Дрекслер умер… Хороший, верный был товарищ. Иоанн Райке умер, Отто Штенке, Ион Тецлин, Ханс Фецдерзен, Карл Шенгер — все умерли. Замучены. Засечены плетьми и бычьими жилами. А Лютген, Геш, Вольф и Меллер — сколько еще убитых!..
— Вальтер!
— Да.
— Уже давно идет процесс о поджоге рейхстага. И наци все больше позорятся. Болгарин Димитров молодец, он задает им жару. Во время суда назвал Геринга подстрекателем в поджоге рейхстага. На каждом заседании скандал, уже не раз его удаляли.
— А как работа на воле?
— В последнее время стало лучше. Партия уже оправилась от массовых июльских арестов. Говорят, будто бы на некоторых предприятиях работа идет вовсю. Тс… Подожди минутку.
Сверху раздается крик Ленцера:
— Кадьфактор! Кадьфактор!
— Слушаю!
— Ты внизу?
— Так точно!
— Ну, ладно! Только чтоб не было разговоров с этими гадами! Понял?
— Так точно!
Курт чистит замки на дверях камер и смазывает их жиром.
— Вальтер!
— В Женеве здорово провалились. Геббельсу пришлось собрать свои манатки и удрать с конференции. Кто-то из дипломатов сказал, что Германия должна посылать политиков, а не гимназистов. Германские предложения о вооружении не прошли.
— Что еще нового?
— Советский Союз заключил торговое соглашение с Соединенными Штатами. Союз заказывает товаров на три миллиарда. Вчера кто-то из караульных сказал: «Вот если б нам такой заказ получить, Германия выбралась бы на несколько лет из тупика». Все бегают за Литвиновым. Даже Муссолини просил его заехать на обратном пути из Америки в Рим.
Крейбелю понадобился целый день, чтобы простучать все эти новости Торстену.
Вечером, сейчас же после сигнала, в караульной появляются Мейзель и Тейч. Там сидит Ленцер.
— Роберт, дай-ка мне твой ключ от одиночек, мы хотим навестить Кольтвица.
— Кольтвица оставьте сегодня в покое.
Глаза Мейзеля становятся маленькими и злыми.
— Ты хочешь мне предписывать?
— Предписывать? Нет. Я только говорю, что ты должен сегодня оставить Кольтвица в покое.
Мейзель не возражает: внешне он совершенно спокоен, но в действительности готов наброситься на Ленцера.
— Принеси из классной комнаты две плети, — обращается он к Тейчу.
Тот уходит.
— Что это с тобой? — шипит Мейзель на Ленцера, — Пожалуйста, в мои дела не вмешивайся! Кто, собственно говоря, дал тебе право так распоряжаться здесь?
— Во-первых, пока Тейч не вернулся, вот восемь марок. Твоя доля выручки от последней доставки.
Ленцер протягивает ему деньги.
Мейзель колеблется. Неужели ради денег он уступит? Он хотел бы от них отказаться, но они нужны ему, нужны срочно. И он берет.
— Мне они очень кстати… Но, Роберт, скажи мне, почему ты заступаешься за еврея?
— Я не собираюсь заступаться ни за одного еврея, я только не хочу, чтоб его забили до смерти во время моего дежурства. Ведь Кольтвиц на ладан дышит.