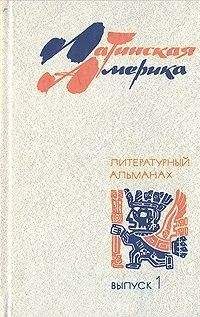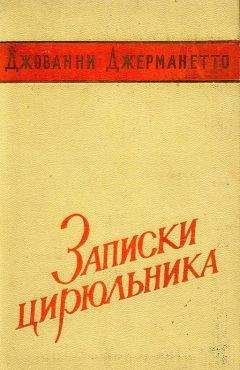Ротмистр бледен как мертвец. Губы плотно сжаты, подбородок дрожит. На лбу крупные капли пота.
— Бросить эту дрянь в мусорный ящик! — кричит Дузеншен Тейчу и идет через двор в комендатуру.
Тейч собирает ордена и ленточки, чтобы исполнить приказание Дузеншена. Ротмистр теряет сознание и падает.
— Эй, вставай! Здесь это не пройдет! — кричит ему Тейч. Но тот лежит неподвижно рядом со своим узелком.
Три человека подымают упавшего в обморок, тащат его в тюрьму и кладут в коридоре у караульной.
После обеда заключенных разделяют на группы. По распоряжению лагерного инспектора ротмистра помещают в общую камеру № 2 отделения «А-1».
Он входит туда бледный и растерянный. Никто из заключенных не знает, кто он. На вопросы он не отвечает. Несколько раз он хватается за грудь, словно ему мало воздуха. Затем его рвет, рвет желчью.
Заключенные думают, что новичка избили, и Вельзен предлагает уложить его в постель. Он покорно, как ребенок, подчиняется.
В такие вечера в камере бывает тихо. Все говорят шепотом. Громкие игры прекращаются.
Караульный Ленцер отворяет дверь в камеру Торстена.
— Заключенный Торстен!
Вместе с Ленцером входит шарфюрер Харден, «ангел-избавитель». Ленцер включает свет. Торстен закрывает глаза.
— Ну, Торстен, радуйтесь, с этой жуткой дырой вы покончили.
Мальчишеское озорное лицо Ленцера расплывается в улыбке, он и в самом деле рад. Харден молча смотрит на заключенного, мигающего от яркого света.
— Вы освобождены от темного карцера, Торстен, и переходите в группу два. Берите вещи и следуйте за нами.
Торстен больше испуган, чем обрадован. А Крейбель? Он останется один. Теперь ему не с кем будет перестукиваться.
— Но что с вами, Торстен? — удивляется Ленцер. — Вы как будто совсем не рады?
— Я думаю, господин дежурный, о заключенных, которые еще остаются здесь.
— Да ну, — говорит Ленцер, — прежде всего надо думать о себе.
Бросив немой взгляд на стену, за которой сидит Крейбель, Торстен выходит из камеры, где он провел шесть недель в полной темноте.
Его оставляют в том же отделении «А-1» и помещают в одиночку № 14. Когда все уходят, он глубоко вздыхает и жадно смотрит в окно, в ясное октябрьское небо…
Камера чистая, вновь побеленная. Здесь настоящая кровать с матрасом, стол и табуретка. На стене висит еще маленький шкафчик. «В такой камере можно выдержать, — думает Торстен. — Никакого сравнения с норой в погребе». Осторожно выглядывает он из окна. Перед ним тюремный двор. По ту сторону стены — деревья и крыши домов. За ними красное кирпичное здание газометра, и рядом большое, высокое новое строение с множеством больших окон.
Ах, это небо… эти деревья… свет… дневной свет!.. Мечтательно смотрит Торстен через оконную решетку. Вдруг в замке скрежещет ключ; Ленцер быстро отворяет дверь.
— Что вы, с ума сошли, Торстен? Ведь часовой сейчас же выстрелит, если увидит вас у окна.
Вскоре, незадолго до сигнала ко сну, дверь Торстена еще раз отворяется.
— Заключенный Торстен!
— Добрый вечер! Ну как, здесь лучше, чем в погребе?
— Конечно, господин фельдшер.
— Зайдите еще разок ко мне по поводу вашего желудка. Понятно?
— Так точно, господин фельдшер.
— Лучше всего в дежурство Ленцера.
Фельдшер проходит по камере, осматривает стены, открывает шкаф и, не говоря ни слова, уходит.
В коридоре фельдшер говорит:
— Это Торстен, депутат рейхстага, которого чуть не забили до смерти, но так и не добились ни слова.
— Я знаю, — отвечает Ленцер.
— Кауфман, и Эллерхузен, и весь штаб присутствовали, но даже толстый Келлер ничего не мог выколотить.
— Тот, которому коммунисты подстрелили ногу?
Фельдшер кивает.
Торстен находит небольшой, завернутый в пергаментную бумагу сверток. Сначала он хочет отодвинуть створку и сказать караульному, что фельдшер что-то забыл. Но потом меняет решение. Сверток лежит на подголовнике откидной постели, нечаянно никто туда не положит. И он его разворачивает. Два бутерброда с ветчиной.
Целыми часами любуется Торстен красочным октябрьским небом, особенно в ясные сумерки при закате. Тогда, покрытое живописными облаками, оно принимает чудесные тона. Все погружено в глубокую тишину, и только птичье щебетанье, доносящееся со стороны сада, оживляет вечера.
Если встать на табуретку сбоку от окна, то можно незаметно для часового любоваться деревьями. Груши и яблоки уже сорваны, листья пожелтели. Особенно мил ему большой лесной бук, который широко раскинулся над фруктовыми деревьями. Утром, когда Торстен просыпается, буку принадлежит его первый взгляд; вечером, когда все покрывается мраком, — последний.
Дни опять кажутся долгими и пустыми. Соседи не понимают его стука. Никто к тому же не знает Торстена, а потому ему не доверяют.
Первое время он бродит по камере взад и вперед и радуется свету, облакам, птичьему щебетанью, своему буку.
Но вскоре безделье начинает угнетать его.
Каждое утро он наблюдает, как заключенных из общих камер выводят во двор и разделяют на рабочие отряды.
Одни уходят с ломами и лопатами на разборку зданий, другие, метут двор, расчищают дорожки. Одиночники же обречены на безделье. И бесконечно медленно тянется для них время.
В последний день октября в камеру Торстена входит Ленцер.
— С завтрашнего дня у вас будут новые дежурные. Меня и Цирбеса сменяют.
— Жаль, — говорит Торстен. — Будут ли это, по крайней мере, хорошие дежурные?
— Я не знаю. — И лицо Ленцера хмурится. — Улучшения, конечно, не ждите. Отделение переходит к Мейзелю. С ним Нусбек. Я буду время от времени вас проведывать. Покойной ночи!
— Покойной ночи, господин дежурный!
На следующий день Мейзель принимает отделение. Весь день он не показывается заключенным и вечером, когда камеры запираются, никому ничего не говорит. Все думают, что Мейзель доволен отделением, и радуются, что все сошло так тихо и гладко. Совершенно неожиданно, приблизительно через час после отбоя, поднимается дикий шум. Он начинается в первой камере. Коридор оглашают крики боли, ругательства.
Палачи переходят из камеры в камеру.
За шесть недель сидения в темноте чувства Торстена сильно обострились; ему все чудится, будто во время избиения он слышит женский голос.
Сейчас они бьют кого-то в камере напротив. Удары плетей и хватающие за душу крики прерываются возгласами: «Убийцы!», «Сволочи!», «Красные бродяги!». И вдруг Торстен слышит явственно женский смех. Сомнений нет. В этой экзекуции участвует женщина. Кто бы это мог быть?
Избивают его соседа рядом. Он дико воет и после каждого удара громко вскрикивает. Сейчас они ворвутся к Торстену. Он чувствует, как учащается его пульс, как появляется легкая дрожь. Он берет себя в руки.
Камеру рядом запирают. Идут. Вспыхивает свет. В замке скрежещет ключ. В дверях появляется красный, разгоряченный поркой Мейзель. Рядом с ним Тейч.
— А ну, вставай!
Торстен вылезает из постели. В это время он видит рядом с эсэсовцем в стальном шлеме и с винтовкой молоденькую девушку.
— Нагнись! — кричит Мейзель, который рядом с Торстеном выглядит совсем мальчишкой.
Торстен смотрит в коридор и медлит. Вооруженный часовой и девушка стоят в полутемном коридоре, но Торстен ясно видит их. Девушка — маленькая, очень стройная, с узким изящным личиком.
Хлоп! Удар плеткой пришелся прямо по лицу.
— Ты нагнешься, сволочь? — с пеной у рта кричит Мейзель и наносит второй удар по лицу.
— Нагнись, собака!.. Нагнись!..
Торстен нагибается.
Мейзель и Тейч бьют одновременно. В камере тесно, и Мейзель хлещет по спине так, что концы плети угождают Торстену прямо в лицо. Он руками защищает глаза, судорожно сжимает челюсти и ни одним звуком не выдает боли.
Наконец они останавливаются.
— Если вы, собаки, не будете повиноваться, то так будет каждый вечер! — кричит Мейзель и захлопывает дверь.
Они идут в следующую камеру, где повторяется то же.
Торстен стоит босой, в одной тюремной сорочке, не в состоянии что-либо сделать. Так стоит он долго и слушает, как избивают подряд всех заключенных…
Наконец осторожно, чтобы не было слышно, наливает в таз холодной воды и делает обтирание. Это успокаивает. Лицо, горящее и распухшее от ударов, охлаждает компрессами.
Из караульной до полуночи доносится громкий говор дежурных и звонкий смех и пронзительные взвизгивания девушки.
Когда ротмистр, с сумрачным лицом, заложив руки за спину, одиноко шагает взад и вперед у двери камеры, заключенные посмеиваются. В день своего прибытия он в продолжение нескольких часов молчал. Чтобы что-нибудь узнать, приходилось вытягивать из него по одному слову.