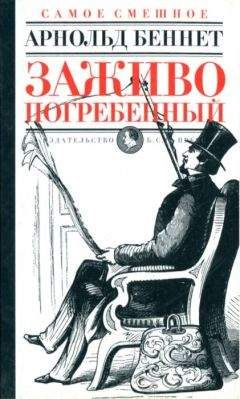Обворожительное женское внимание! Он ободрился.
— Послушай, Элис, — приступился он, пока она помешивала чай, — ты помнишь, как я впервые сказал тебе, что умею рисовать?
— Да, — был ответ.
— Ну вот, и сначала ты думала, что я дурачусь. Ты думала, что я немного не в себе, ведь правда?
— Нет, — сказала Элис, — просто я подумала, что на тебя дурь нашла. — Она смущенно усмехнулась.
— Ну, и что оказалось?
— Ну, ты же деньги зарабатываешь, тут чего уж говорить, — признала она мило. — И что б мы без них делали, прямо я не знаю.
— Значит, ты была неправа, не так ли? А я был прав?
— Ну да, — она просияла улыбкой.
— А помнишь, как я сказал тебе, что я на самом деле — Прайам Фарл?..
Она кивнула без особенной охоты.
— А ты подумала, что я совсем с ума сошел. Ах, ну не спорь! Я же прекрасно видел, что ты думаешь.
— Я подумала, что ты не совсем здоров, — призналась она откровенно.
— А вот ты и ошиблась, детка. И сейчас я тебе снова повторяю, что я Прайам Фарл. Честно говоря, я, может быть, и сам тому не рад, но тем не менее. И вся-то заковыка в том, что тип, который утром приходил, он это выведал, и теперь будут неприятности. Уже, собственно, были неприятности, и дальше еще будут.
Это произвело впечатление. Она не знала, что сказать.
— Но, Прайам…
— Он заплатил мне сегодня пятьсот фунтов за картину, которую я только что кончил.
— Пять…
Прайам простительно театральным жестом выхватил деньги из кармана и просил ее их пересчитать.
— Пересчитай, — повторил он, видя ее нерешительность.
— Ну как? — спросил он, когда она с этим покончила.
— Ой, да все правильно. Но только, Прайам… Я не хочу, чтоб дома была такая куча денег. Ты б лучше положил их в банк.
— Да черт с ним, с банком! — вскрикнул Прайам. — Ты лучше слушай, и постарайся убедиться, что я не сумасшедший. Да, не спорю, я немного застенчив, и только по застенчивости допустил, чтоб вместо меня похоронили этого проклятого лакея.
— Уж можешь мне и не говорить, какой ты робкий, — она улыбалась. — Да каждая собака в Патни это знает.
— Ну, я-то, собственно, в этом не вполне уверен! — и он тряхнул головой.
А потом он начал все с самого начала и во всех подробностях, с психологическим анализом собственных переживаний, ей описал ту историческую ночь на Селвуд-Teppac. В течение пяти минут, при мощной поддержке пятисот фунтов наличными, он убедил ее в том, что он и в самом деле Прайам Фарл.
И ждал, что она зайдется от удивленья и восторга.
— Ну, раз так, стало быть так, — только и заметила она, окидывая его через стол снисходительным, хозяйским взглядом. Дело в том, что имена ее не занимали, ее занимала жизнь. А он был ее жизнь, и коль скоро он не изменился, ни по существу, ни с виду, — раз он остался самим собой — ей и не важно было, как его зовут. Она прибавила:
— Ей-богу, я прямо не понимаю, Генри, ну что было у тебя в голове — такое учинить!
— Я сам не понимаю, — бормотнул он.
Потом он ее посвятил в происки мистера Оксфорда.
— А хорошо, что ты костюм себе новый справляешь, — вздохнула она погодя.
— Почему?
— Ну, раз будет суд.
— Суд между мистером Оксфордом и этим Уиттом. А мне-то что за дело?
— Тебя вызовут показания давать.
— Не стану я показания давать. Я уже сказал Оксфорду, что палец о палец не ударю.
— Ну, а вдруг заставят. Они могут, у них суб… суб… ну, я забыла, как называется. И тебе тогда придется выходить к трибуне.
— К трибуне? Мне? — Прайам совершенно был сражен.
— Конечно, кому ж понравится такое! — посочувствовала она. — И без нового костюма тут никак. Хорошо, что заказал. Когда примерка?
На другой год, в июле, однажды ночью Прайам с Элис так и не ложились спать. Элис прикорнула на часок в углу дивана, Прайам читал с нею рядышком, в кресле, а в два часа, когда только чуть-чуть редела ночь, только суля рассвет, вдруг оба они вскочили и лихорадочно засуетились при газовом освещении в гостиной. Элис заваривала чай, намазывала бутерброды, варила яйца, носясь из комнаты в комнату. Сбегала наверх, кое-что побросала в уже почти уложенные чемодан и сумку, снесла вниз. Все силы Прайама тем временем ушли на то, чтоб принять ванну и побриться. Не обошлось без пролития крови, что было натурально в столь несказанный час. Покуда Прайам поглощал еду, Элис носилась по дому. То вдруг являлась она в гостиной, зажав в зубах горсть булавок, то кидалась в прихожую, чтоб убедиться, что ключи от чемодана и сумки с ее портмоне благополучно лежат на подставке для зонтиков, — как бы не забыть. В промежутках между этими действиями она прихлебывала чай.
— Ой, Прайам, — сказала она наконец, — вода нагрелась. Ты кончил? Скоро рассветет.
— Вода нагрелась? — он был в недоуменьи.
— Ну да, — она сказала. — Надо же все это помыть. Неужели же ты думаешь, что я оставлю в доме всю эту кучу грязи? А пока я мою, ты прикрепи наклейки на багаж.
— К чему же нам наклейки? Мы весь багаж возьмем с собой.
— Ой, ну Прайам же, — она не сдавалась. — Какой ты скучный!
— Я путешествовал побольше твоего, — он попытался улыбнуться.
— Да уж, представляю, как ты путешествовал! Но если тебе все равно, что вещи пропадут, так мне не все равно!
Меж тем она поставила посуду на поднос и унеслась из комнаты.
Через десять минут, в шляпке и в перчатках, под густой вуалью, она осторожно приоткрыла входную дверь и выглянула на освещенную фонарями улицу. Глянула направо, потом налево. Потом дошла до калитки, снова глянула.
— Ну что? — шепнул Прайам ей в затылок.
— Все в порядке, по-моему, — шепнула она в ответ.
Прайам вышел из дому с чемоданом в одной руке, с сумкой в другой, с трубкой во рту и с перекинутым через плечо плащом. Элис взбежала по ступенькам, оглядела дом изнутри, молча закрыла дверь, заперла. А потом они с Прайамом вышли и, крадучись под летними звездами, как будто тащат в чемодане награбленное, заспешили по Вертер-роуд к Оксфорд-роуд. Завернув за угол, оба вздохнули с глубоким облегчением.
Побег удался.
Со второй попытки. Первая, предпринятая среди бела дня, совершенно провалилась. За их кэбом до самого Паддингтонского вокзала следовали тогда три других кэба с репортерами и фотоаппаратами трех воскресных газет. Один журналист ловко пронырнул вслед за Прайамом к билетной кассе, подслушал, как тот просил два билета второго класса до Уэймута и сам поехал в Уэймут вторым классом. Туда доехали благополучно, но поскольку через два часа по их приезде Уэймут стал еще даже невозможней, чем Вертер-роуд, пришлось позорно воротиться.
А Вертер-роуд стала самой знаменитой улицей во всем Лондоне. Фотографии ее десятками печатались во всех газетах, причем помечалось крестиком жилище Прайама и Элис. Журналисты всех мастей кишели там с утра до поздней ночи. Фотоаппаратов было чуть ли не больше, чем фонарей. А один знаменитый репортер из «Санди Ньюс» снял даже квартиру точь-в-точь напротив нумера четырнадцатого. Прайам с Элис шагу не могли ступить в безвестности и тишине. И если будет преувеличением утверждать, что вечерние газеты выходили с экстренным сообщением: «5 ч. 40 мин. Миссис Лик отправилась за покупками», то ей-богу, не такое уж это серьезное будет преувеличение. Две недели Прайам носа не высовывал из дому в дневное время. И тут уж Элис, встревоженная его бледным видом и расшалившимися нервами, предложила план побега до раннего летнего рассвета.
Вот они добрались до Ист-Патни-Стейшн; ворота были заперты, первому рабочему поезду было еще не время. И они ждали. Вокруг не было ни души. Только башенные часы прилежно будили каждые четверть часа всю ближнюю округу. Потом привратник отпер ворота — еще ужасно было рано — и Прайам, торжествуя, купил билеты до Ватерлоо.
— Ой, — вскрикнула Элис, когда они всходили по ступенькам, — я же ведь шторы не раздвинула, совсем забыла!
— А для чего ты собиралась раздвинуть шторы?
— Ну как же, раз они задернуты, каждый дурак сразу сообразит, что нас там нет. А если…
Она стала спускаться.
— Элис! — окликнул он странным, не своим голосом. Лицо у него побелело и ходили желваки.
— А?
— К чертям собачьим эти шторы. Иди сюда, или, ей-богу, я тебя убью.
Она поняла, что нервы у него так взбунтовались, что от любого пустяка может произойти падение правительства.
— Ах, ну и ладно! — это милое послушание совершенно успокоило его.
Через четверть часа они благополучно затерялись в пустыне Ватерлоо, и почтовый поезд понес их в Борнмут для краткой передышки.
Интерес Соединенного Королевства к необычайному делу Уитта против Парфиттов достиг уже, кажется, наивысшей степени накала. И у Королевства были, были причины для столь пламенного интереса. Уитни Уитт, истец, приехал в Англию, со всеми своими чудачествами, свитой, безмерными богатствами и скверным зрением, исключительно ради того, чтоб вывести на чистую воду галерею Парфиттов. Отчасти трогательная фигура — седой, полуслепой, некогда тонкий знаток, он, просто по привычке, продолжал скупать драгоценные картины, которых уже не мог он видеть! Мистер Уитт неумолимо ополчился против Парфиттов, будучи убежден в том, что мистер Оксфорд пытался нагреть руки на его слепоте. И вот он начал дело, невзирая на слепоту, невзирая на затраты. Апартаменты его и царственное ежедневное пребывание в «Гранд-отеле Вавилон» обходились в баснословную сумму, точно подсчитываемую в пространных статьях иллюстрированных газет. Далее шел мистер Оксфорд, довольно молодой еврей, который приобрел Парфиттов, который, собственно, и был Парфитты — он тоже живописно выделялся на фоне Лондона. Он тоже швырял деньги направо и налево; немудрено: на карту была поставлена сама судьба Парфиттов. И наконец, больше всех раздражал общество загадочный субъект, таинственно маячивший на заднем фоне, субъект необъяснимый, обретавшийся на Вертер-роуд в Патни, личность которого и должен был установить процесс Уитта versus[20] Парфиттов. Если Уитт выигрывает процесс, тогда Парфиттам крышка. Мистер Оксфорд угодит в застенок за мошенничество, а имя Генри Лика пополнит список тех лихих мерзавцев, какие выдавали себя за собственных господ. Но если Уитт проигрывает дело — о, тут пойдут такие тонкости, такие новые загадки! Если Уитт проигрывает, тогда значит — всенародные похороны Прайама Фарла были — позорный фарс. Простой лакей лежит под освященными сводами Аббатства, и зря скорбела вся Европа! Если Уитт проигрывает — значит нация стала жертвой небывалого, чудовищного обмана! И тут опять встает вопрос — зачем?