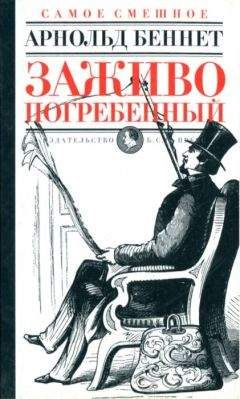И он продолжил, не меняя тона:
— Объяснение тут проще простого. Прайам Фарл, оказывается, вовсе и не умер. Умер его лакей. Совершенно естественно, более чем натурально, великий гений Прайам Фарл решает провести всю оставшуюся жизнь простым лакеем. Всех он обманул: доктора, кузена своего Дункана Фарла, власти, епископа и капитул Вестминстерского аббатства — словом, всех на свете! В качестве Генри Лика он женится, в качестве Генри Лика снова принимается за живопись — в Патни; за таковым занятием он проводит несколько лет, ни в ком решительно не возбуждая ни малейших подозрений. И вдруг, — по странному совпадению, сразу же после того, как мой доверитель пригрозил ответчику судом, — он открывает свое истинное лицо, как Прайам Фарл. Вот такое простейшее, достовернейшее объяснение, — проговорил мистер Пеннингтон, к. а. и прибавил, — каковое сейчас представит вам на рассмотрение ответчик. Конечно вас, людей бывалых, многоопытных, оно тотчас же убедит. Вы не станете же отрицать, что подобное то и дело происходит, что это вещи повседневные, привычные, на каждом шагу встречаются. Мне пожалуй, даже стыдно, что вот стою тут перед вами и тщусь опровергнуть историю, столь правдоподобную, столь убедительную. Чувствую, что дело мое почти пропащее. Однако, делать нечего, я уж попытаюсь.
И так далее, в том же духе.
То было одно из грандиознейших его свершений в области иронии, которую так любят присяжные заседатели. И в публике решили, что дело, считай, решено.
После того, как мистер Уиттни Си Уитт и секретарь его наполнили весь зал гнусавым отзвуком Нью-Йорка (сдержанная ярость престарелого Уитта произвела сильное впечатление), была вызвана свидетельница миссис Лик. Ее под обе руки поддерживали два викария, однако им не удалось сдержать ее рыданий под мощный оклик пристава. Она заявила о своем браке.
— Это ваш муж? — осведомился мистер Водри, к. а., (принявший на себя главную роль, ибо Пеннингтон, к. а. был занят уже в другой пьесе и в другом театре), хорошо отрепетированным драматическим жестом указывая на Прайама Фарла.
— Да, — прорыдала миссис Лик.
Несчастная сама верила тому, что говорила, а викарии, хоть и не проронив ни слова, сумели впечатлить присяжных. Когда к допросу приступил Крепитюд, к. а., и заставил таки ее признать, что при первой встрече с Прайамом у него на Вертер-роуд, она его не вполне узнала, она ответила:
— Но потом-то я сообразила. Неужели же может женщина не узнать отца своих детей?
— Может, — вставил судья. Была ли это шутка, или нет — тут мнения публики разделились.
Миссис Лик была, надо сказать, жалка, но уж нисколько не забавна. Зато мистер Дункан Фарл, сам того не желая, несколько разрядил атмосферу.
Дункан с негодованием отмел всякую возможность того, что Прайам — это Прайам. Он подробно изложил все обстоятельства, сопровождавшие смерть на Селвуд-Teppac, и пятидесятые различными способами доказал, что Прайам никак быть Прайамом не может. Этот человек, выдающий себя здесь за Прайама, — не джентльмен даже, тогда как Прайам — кузен Дункана Фарла! Дункан был свидетель безупречный, сдержанный, точный, непоколебимый. Приступив к допросу этого свидетеля в интересах своего клиента, Крепитюд просил, чтоб он подробно описал свою детскую встречу с Прайамом. Никакой настырности Крепитюд не проявлял.
— Расскажите нам, как это все было, — просил Крепитюд.
— Ну, мы подрались.
— О! Подрались! Но из-за чего же подрались два нехороших мальчика? (Смех в зале).
— Из-за кекса с изюмом, кажется.
— О! Не с тмином, например, а именно с изюмом? (Громкий смех в зале).
— По-моему, с изюмом.
— И каков же был исход кровопролитной схватки? (Громкий смех).
— Кузен мне вышиб зуб. (Бурные раскаты смеха, в котором участвует и суд).
— И что же вы ему сделали?
— Кажется, ничего особенного. Помню, одежду на нем порвал. — Смех переходит во всеобщий рев, в котором принимают участие все, кроме Прайама и Дункана Фарлов.
— О! И вы уверены, что все это точно помните? (Взрыв истерического смеха).
— Да, — отчеканил Дункан Фарл, холодно припоминая прошлое. В глазах его был отсутствующий взгляд, и он прибавил: — Помню, на шее у моего кузена, под воротником, были две маленькие родинки. Да, я точно помню. И как это я сразу не сообразил.
Конечно, когда вам говорят со сцены ну, хоть бы и про одну родинку, это ужасно, удивительно смешно. При упоминании же о двух родинках сразу зал буквально покатился со смеху.
Мистер Крепитюд склонился к поверенному напротив; тот склонился к своему секретарю, секретарь что-то шепнул Прайаму Фарлу, и тот кивнул.
— Э-э… — начал было мистер Крепитюд, но осекся и сказал Дункану Фарлу: — Благодарю вас. Вы можете занять свое место в зале.
Потом свидетель по имени Жюстини, кассир в «Отель де Пари», в Монте-Карло, объявил под присягой, что Прайам Фарл, знаменитый живописец, на четыре дня останавливался у них в отеле в мае, в жаркую погоду, семь лет тому назад, и то лицо в суде, которое ответчик выдает за Прайама Фарла, ничего общего с тем знаменитым живописцем не имеет. И никакие расспросы адвокатов не могли поколебать мистера Жюстини. Вслед за ним выступил распорядитель из отеля «Бельведер» в Монт-Перелине, близ Веве в Швейцарии, повторил подобный же рассказ и остался столь же тверд.
А дальше вынесены были сами картины, явились эксперты, и началось подробное освидетельствование. Но едва оно началось, пробили часы, и на сегодня представление закончилось. Главные актеры скинули с себя сценические костюмы и схватились за вечерние газеты, дабы убедиться в том, что репортеры, как всегда, возносят им хвалы. Судья, подписчик агентства по рассылке газетных вырезок, рад был обнаружить, что ни одна из его шуток не была опущена ни одной из девятнадцати главных утренних лондонских газет. Стрэнд и Пиккадилли только и думали, что о деле Уитта против Парфиттов: его на все лады склоняли вечерние плакаты и пронзительные голоса мальчишек-газетчиков. Телеграфные провода трясло от дела Уитта против Парфиттов. В больших промышленных городах заключались пари, и ставки делались большие, очень большие. Англия, одним словом, была довольна, и главные актеры имели право спокойно перевести дух. Но люди самые дотошные, по клубам, по пабам, туманно говорили что-то насчет двух родинок, и что, мол, Прайам тогда кивнул в ответ, когда ему шептал что-то секретарь: подобные детали не ускользают от современных очеркистов, зарабатывающих тысячу фунтов в год. И люди самые дотошные считали, что эти родинки обещают много еще чего очень даже интересного.
«Лик дает показания».
Новость полетела по телеграфным проводам, попала на плакаты через пять минут после того, ка Прайам принес присягу. Англия затаила дух. Три дня прошли с начала слушания (ведь актеры, получающие по сотне фунтов в день, не станут щелкать хлыстом над экспертами, зарабатывающими по десятке; и потому дело продвигалось сдержанным и важным шагом), и страна ждала щелчка.
Никто кроме Элис не знал, чего можно ожидать от Прайама. Элис знала. Она знала, что он в ужасном состоянии, и это может привести к ужасному исходу; и знала, что ничего не может с ним поделать! Была, была с ее стороны попытка омыть его светом разума, но успеха не имела. А повторять попытку Элис не решалась. Пеннингтон, к. а. к тому же настоял на том, чтоб она покинула зал на время показаний мужа.
Прайам ко всему процессу относился с возмущением, то жгучим, то холодным. Все это разбирательство было ему в высшей степени противно. Он ненавидел Уитта столь же остро, как ненавидел Оксфорда. Всего-то он и просил от мира, что тишины, укромности, немного, кажется, совсем немного, но даже в этом было ему отказано. Он не просил, чтоб его хоронили в Вестминстерском аббатстве; погребение это ему навязали. А если он решил назваться другим именем — кому какое дело? Если он предпочел жениться на простой женщине, жить в пригороде и писать картины по десяти фунтов каждая, кому это мешало? И зачем понадобилось выволакивать его на люди, из-за того, что два субъекта, на которых ему было решительно плевать, повздорили из-за его картин? Чего ради ему портили жизнь в Патни, изводили наглым любопытством зеваки, репортеры? И за что, за что, с помощью синего клочка бумаги, его подвергли невыносимой пытке, заставили, сгорая со стыда, явиться перед целым светом в качестве свидетеля? Эта последняя незаслуженная кара, этот нестерпимый ужас венчали все, лишая его сна много ночей подряд.
Давая показания, он имел, конечно, вид пойманного преступника — эти нервные жесты, дрожащие приспущенные веки, слабый, сиплый голос, который он с трудом выталкивал из горла! Нервозность с подоплекою обиды составляет роскошный материал для пластического искусства перекрестного допроса, и Пеннингтон, к. а. прямо-таки бил копытом, так и рвался в бой, тогда как Крепитюд, к. а. выказывал куда меньше рвенья. Крепитюд был адвокат ответчика, мистера Оксфорда, так что Прайам был его свидетель, но свидетель жуткий, свидетель, настойчиво, свирепо отказывавшийся открыть рот до того, как дал присягу. Да, он, разумеется, кивнул в ответ на шепот того секретаря того поверенного, но своего кивка он подтвердить не пожелал и ни единым словом не помог мистеру Крепитюду во все три дня процесса. Сидел себе и молча полыхал.