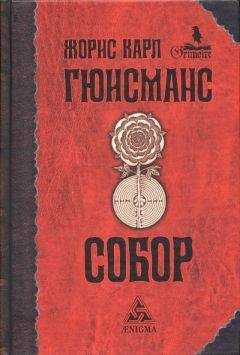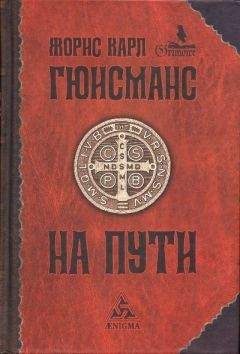Этот гравированный золоченной меди прибор немецкой работы 17-го века дез Эссент приобрел у одного парижского старьевщика после того, как побывал в музее Клюни, где его привела в восхищение музейная астролябия из резной слоновой кости с совершенно восхитительным каббалистическим узором.
Пресс-папье на столе вызвало к жизни целый рой воспоминаний. Мысли, благодаря драгоценной вещице, пришли в движение, сгустились до образа и перенесли дез Эссента в Париж — сперва в антикварную лавку, где он купил ее, затем в музей Терм. И дез Эссент, глядя на свою узорчатую медную астролябию, видел теперь на ее месте ту костяную, клюнийскую.
Вот он вышел из музея и, не покидая черты города, отправился на прогулку, побродил по улице Сомрар, бульвару Сен-Мишель, по соседним улицам, постоял у магазинчиков, богатству и вкусу которых он столько раз поражался.
Музейная астролябия в памяти дез Эссента сменилась кабачками Латинского квартала.
Он вспомнил, сколько их было ближе к Одеону, на улицах Месье-ле-Прэнс и Вожирар. Иногда нагромождение кабачков напоминало вереницу однообразных прогулочных лодок на Селедочном канале в Антверпене.
И, словно наяву, сквозь полуоткрытые двери и затемненный занавесями или витражами окна он вновь увидел женщин: одни лениво бродили, вытягивая, как гусыни, шею, другие сидели. облокотясь на мрамор столиков, и что-то жевали или напевали, третьи, стоя у зеркала, прихорашивались и перебирали напомаженные парикмахером кудряшки; а иные, высыпав серебро или медь из кошельков со сломанными замочками, складывали из монет столбик за столбиком. Почти у всех черты лица были грубы, голоса хриплы, груди отвислы, глаза густо подкрашены. И все, словно механизмы, заведенные на равное число оборотов, хихикая и отпуская одни и те же намеки и сальные шуточки одинаковыми словами зазывали к себе мужчин.
Улочки с бесконечными кафе, увиденными как бы с высоты птичьего полета, вызвали у дез Эссента кое-какие ассоциации,
Ему стал ясен смысл этих заведений. Они в точности отвечали настроению целого поколения и сполна выражали определенную эпоху.
Ее признаки со всей очевидностью были налицо: дома терпимости один за другим закрывались, и по мере их исчезновений множилось количество выраставших на этом же самом месте дешевых кафе.
Сокращение проституции в пользу тайных амуров объяснялось, по-видимому, особенностями мужской психологии.
Как ни странно это могло показаться, но забегаловка способствовала достижению некоего идеала!
Несмотря на то что утилитаризм, который был получен в наследство и развит ранним хамством, а также вечной грубостью однокашников, сделал молодежь на редкость бесцеремонной, деловитой и холодной, молодые люди в глубине души по-прежнему оставались сентиментальными и сохраняли идеал старомодной рыцарственной любви.
И теперь, когда в мужчинах кипела кровь, они не решались так просто войти, получить свое согласно заплаченному и выйти. В этом было бы, по их мнению, что-то скотское, вроде собачьей свадьбы. Вдобавок тщеславие отвращало их от публичного дома, ведь ни видимости сопротивления, ни подобия победы, ни надежды, что выберут именно тебя, а не другого, тут не имелось. Не было здесь даже и непроизвольной щедрости красавицы — ласки она отмеривала в строгом соответствии с полученной суммой.
Зато, напротив, ухаживание за барышней из кафе сохраняло все прелести любви и тонкость чувства. За благосклонность дамы приходилось бороться, и тот счастливчик, которому она назначала, надо сказать, более чем щедро оплаченное свидание, совершенно искренне считал, что одержал над соперником верх и удостоился редчайшей милости.
В то же время эти прелестницы были так же недалеки, корыстны, мерзки и всем пресыщены, как и милашки из веселых домов. И так же фальшиво пили они и смеялись, так же обожали грубые ласки, так же бранились и вцеплялись друг другу в волосы по каждому пустяку. Мало того, молодые парижане упорно не хотели замечать, что подавальщицы из кафе по красоте нарядов и манерам решительно уступали девицам из дорогих гостиных! "О, Господи, — изумлялся дез Эссент, — какие же болваны эти кавалеры из пивной! Ладно бы только строили иллюзии! Они не замечают, как рискуют, заглатывая гнилую наживку, сколько денег изводят на выпивку, стоимость которой хозяйка установила заранее, сколько времени теряют на ожидание ласк, отсроченных, чтобы поднять цену, сколько чаевых переплачивают оттого, что уплата по счету нарочно до поры до времени отложена!"
Эта смесь идиотской сентиментальности с торгашеской хваткой и была отличительной чертой эпохи. Одни и те же люди могли за грош удавить ближнего, но теряли голову и млели в обществе обхаживающей их и нещадно обиравшей кабатчицы. Работали фабрики и заводы, отцы семейств под предлогом конкуренции стремились обмануть друг друга и разорить. А сыновья прикарманивали полученную прибыль и шли к этим душенькам. Душеньки же обирали сердечных дружков.
По всему Парижу, с юга на север и с запада на восток, катилась волна вымогательств и грабежей только потому, что красотка не откликалась на порыв мужчины немедленно, а заставляла, видите ли, томиться и ждать!
В общем, вся мудрость человеческая заключалась в проволочке и промедлении. Сначала сказать "нет" и только потом, позже — "да". Потому что потомишь молодежь — значит, укротишь.
— Эх, если б с желудком так же! — вздохнул дез Эссент: новый приступ боли вернул его с небес в Фонтеней.
Кое-как прошло несколько дней. Дез Эссент пускался на всевозможные хитрости, и тогда желудочная боль отступала. Но однажды утром желудок не вынес ни маринада, маскировавшего запах жира, ни с кровью поджаренного мяса. Дез Эссент встревожился. Он был и без того слаб, а теперь мог ослабеть еще больше и совсем слечь. Правда, вспыхнула искорка надежды.
Он вспомнил, что когда-то, серьезно заболев, один его приятель особым образом готовил себе пищу и тем самым, одолев анемию и истощение, сохранил остаток сил.
Дез Эссент отправил старика слугу в Париж за драгоценной посудиной и, изучив приложенную к ней инструкцию, самолично объяснил кухарке, что в эту медную кастрюльку следует положить — без воды и жира — мелко нарезанное мясо с кусочком лука-порея и кружком моркови, закрутить крышку и поставить на четыре часа на огонь.
После этого мясо выжималось и получалась ложка мутного терпкого сока. Его теплая взвесь бархатисто ласкала небо.
От этого бальзама проходили и резь, и тошнота натощак. Соглашаясь на несколько ложек супа, желудок успокаивался.
Чудесное средство помогло. Невроз приостановился, и дез Эссент сказал себе: "Ну вот, уже лучше. А на днях погода, может, изменится, спадет жара, и тогда я худо-бедно дотяну до первых холодов".
Дез Эссент погрузился в оцепенение, в праздную скуку. Вид книг, которые он так до конца и не разобрал, начал раздражать его. Из кресла он больше не вставал, и перед глазами у него все время возникал книжный хаос: все на полках стояло криво, книги налезали друг на друга, лежали плашмя или стопками, напоминавшими колоды карт. Беспорядок в мире светской словесности был тем более неприятен, что сочинения церковные стояли на полках безукоризненными, как на параде, ровными рядами.
Дез Эссент начал было разбирать книги, но через десять минут покрылся испариной. Даже небольшое усилие измучило его. Он без сил растянулся на диване и позвонил слуге.
Следуя указаниям хозяина, старик принялся за работу и стал подавать ему книгу за книгой. Дез Эссент их просматривал и указывал, куда ставить.
Работа оказалась недолгой, потому что современных светских книг у дез Эссента было крайне мало.
Он давно прогнал их через свое воображение, как металл через фильеру. Подобно новой проволоке — прочной, легкой, тонкой, готовой для следующей фильеры, — книги уплотнились, сократились, закалились, ожидая очередной прогонки. Стремясь к предельному наслаждению, дез Эссент утончил его, сделал почти неосязаемым. В итоге усилился конфликт между собственными идеями и представлениями того мира, в котором он волею случая от рождения пребывал. И теперь он вообще не мог уже найти себе чтения, которое приносило бы подлинное удовлетворение, и охладел даже к книгам, его самого развившим и утончившим.
Впрочем, в понимании искусства он исходил из одной простой мысли: никаких школ, по мнению дез Эссента, не существовало; о чем бы ни размышлял, ни писал автор, реальный интерес представляла лишь его индивидуальность, работа его мозгов.
Подобная точка зрения, разумеется, неоспорима, достойна Ла Палисса. Вместе с тем на этом, увы, далеко не уедешь по той простой причине, что читатель, даже если отвлечется от собственных пристрастий и предрассудков, все равно предпочтет вещь, которая больше соответствует его темпераменту, а от всех остальных книг отмахнется.