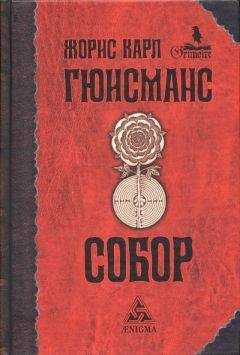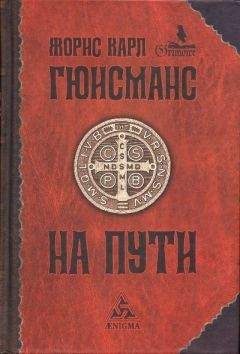Слуга принес новую кипу книг. Эти не столь его радовали. Однако и среди них он кое-что со временем полюбил. Отдыхая от писателей эпического размаха, он при чтении книг подобного рода даже получал удовольствие от определенного несовершенства. И здесь дез Эссент произвел свой отбор. Среди плотной вязи слов он выискивал фразы, которые искрились и содержали особый заряд, и весь прямо-таки вздрагивал, когда он разряжался в среде, казалось бы, для электричества не подходящей.
Дез Эссенту нравились даже недостатки писателей, если те оставались самими собой, никому не подражали, имели свой почерк. И. может, был прав, считая, что писатель, пусть и несовершенный, но оригинальный и не похожий на других, действует сильней и пронзительней, чем выдающиеся мастера. Язык как бы отчаялся передать всю глубину идей и ощущений, и в этих несовершенстве, тревоге, надрыве, как полагал дез Эссент, — источник самых сильных чувств, прихотливых печалей и невообразимых изломов.
Таким образом, помимо четырех мэтров дез Эссент неосознанно для себя любил еще нескольких писателей, дорожа ими тем более, что они были презираемы ограниченной публикой.
Одним из его любимцев стал Поль Верлен, чья первая и давняя книга стихов "Сатурнические песни" казалась довольно жалкой — романтической риторикой да перепевами из Леконт де Лиля. Но уже тогда в некоторых вещах, особенно в сонете "Заветная мечта", прорывался подлинный верленовский голос.
Пытаясь разобраться, кто повлиял на Верлена в ранних стихах, дез Эссент обнаружил след Бодлера, причем со временем это влияние, несмотря на то что выражено было косвенно и не очень отчетливо, еще более обозначилось и не могло не бросаться в глаза.
Затем, в позднейших книгах "Добрая песня", "Галантные празднества", "Песни без слов" и самой последней "Мудрость" явился поэт самостоятельный, на голову выше прочих своих собратьев.
Рифмой ему служили сложные глагольные формы или длиннейшие наречия, которые часто следовали за односложным словом и падали с него, как водопад со скалы. Строка рассекалась неожиданной цезурой. Стих становился неясным, сумеречным. Вдобавок он был полон аграмматизмов и рискованных эллипсов, правда не лишенных прелести.
Однако метрически поэт был неподражаем и смог омолодить устоявшийся стихотворный канон. Сонеты он словно опрокидывал, и они, как японские керамические рыбки, стояли хвостиком кверху. Или же разрушал сонет, строя его на одной лишь мужской рифме, к которой, судя по всему, был неравнодушен. А иногда использовал совсем странную строфу — трехстишие с нерифмованным вторым стихом или монорим со строкой-рефреном, эхом вторившей самой себе, например в стихотворениях "Street" и "Станцуем жигу!". Были у него и едва слышные стихи, звук которых затухал, как удаляющийся колокольчик.
Но главная черта его индивидуальности — зыбкие и дивные откровения вполголоса, в сумерках. Только у Верлена особая, тревожная запредельность души, тихий шепоток признаний и мыслей. Этот шепоток так неясен и смутен, что его скорее угадываешь, чем слышишь, и от этой таинственности испытываешь сильнейшее душевное томление. Весь Верлен — в изумительных стихах из "Галантных празднеств":
И в сумерках косых, двусмысленных девица
Шла под руку с тобой, у твоего плеча
Словечки до того бесстыдные шепча,
Что сердце и теперь трепещет и дивится.
Это вам не бескрайний горизонт в распахнутой настежь двери незабвенного Бодлера. Это щелка, и сквозь нее виден уютный лужок при луне, удел души поэта. Его поэтическое кредо сформулировано им в следующих, кстати любимых дез Эссентом, строках:
Всего милее полутон,
Не полный тон, но лишь полтона.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Все прочее — литература.
Словом, дез Эссент охотно читал Верлена и следил за выходом его не похожих друг на друга книг. Напечатав в санской газетной типографии "Песни без слов", Верлен надолго замолк, потом зазвучал снова, с мягким вийоновским придыханием воспевая Святую Деву, "...вдали от нынешних времен, от грубого ума и грустной плоти". Эту книгу стихов, "Мудрость", дез Эссент читал и перечитывал. Она вызывала в нем мечты о чем-то запретном, о тайной любви к византийской Мадонне, а Мадонна вдруг превращалась в языческую богиню, невесть как попавшую в наш век. Виделась она зыбко, загадочно, и трудно было сказать, то ли она пробуждает греховную страсть, страшную и неодолимую, если хоть раз отдаться ей, то ли грезит о беспорочной любящей душе, о чувстве чистом и невыразимом.
Доверие дез Эссенту внушали и еще несколько поэтов. Один из них, Тристан Корбьер, выпустил в 1873 году на редкость эксцентрическую книжку стихов "Желтая любовь", встреченную публикой с полным равнодушием. Дез Эссент же из одной только ненависти к стадности и пошлости одобрил бы любое безумство, любую экстравагантность. Книжку Корбьера он читал с наслаждением, часами. Эти стихи, смешные, беспорядочные и буйные, приводили в замешательство. Многие по смыслу были совершенно невнятны, например "Литания сна". Этому сну, по словам поэта, —
Постыдные мечты вверяют богомолки.
Да и звучало все это как-то не по-французски. Поэт писал на тарабарском языке, смеси негритянского с телеграфным, то и дело опускал глаголы, без конца зубоскалил, сыпал, как рекламный агент, плоскими шуточками, выдавал затем нелепые каламбуры, сюсюкал — и вдруг пронзительно вскрикивал от боли, и крик был подобен звуку лопнувшей виолончельной струны. Стиль Корбьера был каменист, сух, костляв. Это и колючки непроизносимых слов и неологизмов, и блеск новых созвучий, и блуждавшие, лишенные рифмы прекраснейшие строки. В "Парижских стихах" дез Эссент находил глубочайшее корбьеровское определение женщины:
Чем больше женщина, тем ярче лицедейка.
Кроме того, языком поразительно лаконичным и сильным воспел он море в Бретани, создал морские пейзажи, сочинил молитву святой Анне, а по поводу лагеря в Конли осыпал пылкими от ненависти оскорблениями тех, кого именовал "шутами четвертого сентября".
За искусственность дез Эссент и полюбил корбьеровский стих, полный ужимок и красивостей, в которых, однако, всегда было что-то сомнительное. За нее же полюбил еще одного поэта. Звали его Теодор Аннон, и был ой учеником Бодлера и Готье, певцом всего изысканно-вычурного.
В отличие от Верлена, на которого повлияли, хоть и не прямо, психологизм Бодлера, его геометрическая выверенность чувства, Теодор Аннон перенял от учителя живописность стиля, пластичность видения людей и предметов.
Прелестная испорченность Аннона роковым образом совпала с пристрастиями дез Эссента, и в холодные, ненастные дни он уединялся в доме, выдуманном Анноном, и упивался мерцанием тканей и блеском камней — роскошью исключительно матерьяльной. Эта роскошь возбуждала мозг, реяла роем шпанских мушек, теплыми волнами фимиама окутывала Брюссельскую богиню с ее покрытым румянами ликом и потемневшим от жертвоприношений торсом.
Из поэтов дез Эссент любил только эту троицу да еще Стефана Малларме, которого велел слуге отложить в сторонку, намереваясь заняться им отдельно. Остальные поэты мало его привлекали.
Леконт де Лиль больше не удовлетворял дез Эссента, хотя стихи его были столь великолепны, величественны и блистательны, что гекзаметры самого Гюго в сравнении с ними выглядели мрачными и тусклыми. Но у Флобера античность оживала, а у Леконта оставалась холодной и мертвой. Его поэзия — показная. И ни трепета в ней, ни мысли, ни жизни, одна полная ледяного блеска бесстрастная мифология. Впрочем, в прежние времена дез Эссент дорожил стихами Готье, но теперь и к ним поостыл. Художником Готье был ошеломляющим, но восхищение им у дез Эссента с годами уменьшилось. И сейчас он больше удивлялся, чем восхищался его в общем-то бесстрастной живописью: вот наблюдатель, очень зоркий, зафиксировал впечатление, но оно так и осталось на сетчатке, не проникло глубже, в мозг, в плоть; и глаз, как эмаль зеркала, четко и бесстрастно отражает окружающий мир.
Конечно, дез Эссент все еще любил Готье и Леконта, как любил редкие камни или неординарные предметы старины. Но ни тот ни другой виртуоз уже никакой своей фантазией не приводили его в восторг, ибо эти фантазии не будили мечты, не уносили дез Эссента на своих крыльях туда, где, по крайней мере, время не ощущалось столь тяжко.
Эти книги уже не утоляли голод дез Эссента, как не насыщал его больше и Гюго. Мотивы Востока, образ патриархов были слишком условными и пустыми, чтобы сказать что-то уму и сердцу, а их слезливость раздражала. Дойдя до "Песен улиц и лесов" с их безукоризненным, по-жонглерски точным владением ритмом, дез Эссент, разумеется, расшаркался перед мастером, но все эти цирковые фокусы он отдал бы за что-нибудь по-бодлеровски новое, по-бодлеровски подлинное. Нет, решительно, Бодлер — почти единственный, кто и по форме блестящ, и по смыслу содержателен и благоуханен.