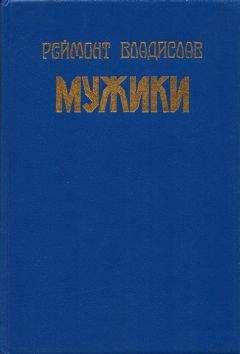— Хозяин я, черт возьми!.. земля моя, так и моя воля — работать или нет… Буду водку пить. Еврей, рисовой! А не то выгоню…
— Шимек! Шимек, ради бога, пойдем домой, мать идет! — умолял его Енджик, горько плача.
Скоро их догнали старуха с Ягной и увели из-под плетня, где они уже успели подраться и вываляться в грязи.
А в корчме после ухода женщин стало тише, люди постепенно расходились, и скоро остался только Борына со сватами, да еще Амброжий и слепой дед, который пил уже наравне со всеми.
Амброжий, пьяный до бесчувствия, стоял посреди корчмы и то распевал, то громко рассказывал:
— Черный был, как чугун… прицелился в меня… Да разве в меня попадешь!.. Всадил я ему штык в брюхо… первый! Стоим, стоим, а вдруг начальник прет… Иисусе Христе, сам начальник! "Ребята", говорит… "Люди", говорит…
— Сомкнись! — крикнул вдруг Амброжий громовым голосом, вытянулся в струнку и медленно попятился, стуча своей деревяшкой. — Выпей со мной, Петр, выпей… сирота я… — пробурчал он невнятно, затем сорвался вдруг с места и вышел из корчмы.
С улицы долетел его хриплый голос. Он пел.
В корчму вошел мельник, здоровенный мужчина, одетый по-городскому, краснолицый и седой, с маленькими бегающими глазками.
— Гуляете, хозяева? Ого, и войт тут, и солтыс, и Борына! Свадьба, что ли?
— Угадал! Выпей с нами, пан мельник, выпей! — приглашал Борына.
Опять все выпили круговую.
— Ну, коли так, скажу вам новость — сейчас отрезвеете! Все уставились на него мутными глазами.
— Слушайте: часу еще не прошло, как помещик продал лес за Волчьим Долом!
— Ах он живодер, куцый пес! Наш лес продал! — крикнул Борына и, не помня себя, швырнул бутылку на пол.
— Продал! Ничего, и на помещика управа найдется, закон на всякого есть! — бормотал пьяный Шимон.
— Неправда это! Я, войт, вам говорю, что неправда!
— Он продал, а мы взять не позволим! Как бог свят, не дадим взять! — кричал Борына и колотил кулаком по столу.
Мельник ушел, а они далеко за полночь толковали об этой новости и грозили помещику.
После сговора прошло несколько дней. Дожди прекратились, вода схлынула с дорог, и они подсохли, только в бороздах и кое-где по низинам да на лугах серели мутные лужи, как заплаканные глаза.
Наступил День поминовения усопших, хмурый, без солнца, мертвый. Даже ветер не шелестел сухим бурьяном, не качал деревья, и они недвижно поникли над землей.
Глухая гнетущая тишина легла на мир.
В Липцах уже с раннего утра мерно и неутомимо гудели колокола, их скорбные, заунывные голоса мучительно стонали в пустых, туманных полях. Печалью последнего прощания звучали они в этот грустный день, в день, что встал бледный, повитый мглою до самого горизонта, где сливаются бескрайние дали земли и неба, в день, синий, как бездонная топь.
От утренней зари, еще бледно горевшей на востоке, из-под туч цвета остывающей расплавленной меди, плыли стаи ворон и галок.
Они летели высоко-высоко, так что едва можно было различить их глазом, и ухо едва улавливало их дикое жалобное карканье, подобное стонам осенних ночей.
А колокола все звонили.
Унылый гимн медленно разливался в неподвижном воздухе, стонами падал на поля, траурно гудел по деревням и лесам, плыл по всему миру, и казалось, люди, и поля, и деревни стали одним огромным сердцем, выстукивающим горькую жалобу.
А птицы летели и летели, так что даже страшно становилось. Они спускались все ниже и все большими стаями, и небо казалось покрытым развеянной сажей, а глухой шум крыльев и карканье раздавались все громче, гудели, как надвигающаяся буря. Птицы описывали круги над деревней и, подобно куче листьев, подхваченных вихрем, неслись над полями, падали на леса, повисали на голых тополях, усеивали липы подле костела, деревья на кладбище и в садах, крыши хат, даже плетни… Потом вдруг, испуганные неумолкавшим колокольным звоном, срывались и черной тучей летели к лесу, а резкий, пронзительный шум плыл за ними.
— Суровая будет зима! — говорили люди.
— К лесу потянулись, — значит, снег скоро выпадет.
И все больше людей выходило из хат поглядеть на такое невиданное скопление птиц. Смотрели долго, с какой-то непонятной тоской, пока птицы не скрылись за лесом. Смотрели, вздыхали тяжело, иной крестился, чтобы оградить себя от нечистого. Потом стали собираться в костел на зов неумолкавших колоколов. Мелькая в тумане на всех дорогах и тропках, шли в костел люди из других деревень.
Глубокая печаль наполняла всех, какая-то необыкновенная тишина сошла на души, тишина горестных дум и воспоминаний об ушедших, о тех, кто уже лежит под склоненными березами, под черными покосившимися крестами.
— Иисусе милосердный! — вздыхали люди, поднимая к небу серые как земля, лица, и шли молиться за умерших.
Деревню словно затопило тягостное безмолвие, и только порой доносилось сюда жалобное, молящее пение нищих у костела.
И у Борыны в избе было сегодня тише, чем всегда, но под этой тишиной таилась буря, готовая каждую минуту разразиться.
Детям уже все было известно.
Вчера, в воскресенье, было первое оглашение с амвона о предстоящей свадьбе старика с Ягусей.
В субботу они ездили в город, и там у нотариуса Борына записал на имя Ягуси шесть моргов земли. Домой он вернулся поздно, с исцарапанной физиономией: подвыпив в городе, он на обратном пути в телеге сунулся было к Ягне с самыми решительными намерениями, но она отделала его кулаком и ногтями.
Дома он ни с кем слова не сказал, несмотря на то, что Антек нарочно все время лез ему на глаза. Он сразу лег спать, как был, в сапогах и тулупе, и утром Юзя поворчала на него за то, что измазал перину грязью.
— Ну, ну, Юзя, не сердись! Случается такое и с теми, кто никогда водки не пьет, — сказал Борына весело и уже с утра ушел к Ягне и сидел там до вечера, а дома его напрасно ждали к обеду и к ужину.
Вот и сегодня он встал поздно — солнце уже давно взошло, — надел свой лучший кафтан, а праздничные сапоги приказал Витеку смазать салом, потом Куба его выбрил, он подпоясался, надел шапку и с нетерпением поглядывал через окно на крыльцо — там Ганка чесала своего мальчишку, а ему не хотелось с ней встретиться. Наконец, улучив минуту, когда она вошла в избу, старик крадучись выбрался во двор — и только его в тот день и видели!
Юзя целый день плакала и металась по избе, как птица в клетке. Антек сгорал от муки, которая становилась все острее и нестерпимее, не ел, не спал, ничем не мог заняться. Он все еще был оглушен новостью и не сознавал, что делается вокруг него и в нем самом.
Лицо его потемнело, глаза казались еще больше и блестели, словно полные непролитых, застывших слез. Он стискивал зубы, чтобы не зареветь в голос, не разразиться проклятиями, и все ходил по избе, по двору, выходил за ворота, на дорогу, возвращался и, тяжело опустившись на лавку, сидел на крыльце целыми часами, глядя в одну точку, словно захлебнувшись болью, которая все росла и не давала передышки.
Дом замер, только и слышны были в нем плач, вздохи и стоны, как после чьих-то похорон. Двери хлева и конюшни были открыты настежь, коровы и лошади бродили по саду, заглядывали в окна, и некому было загнать их обратно — только старый Лапа с лаем наскакивал на них, но не мог с ними справиться.
В конюшне на нарах Куба чистил ружье, а Витек с благоговейным восторгом наблюдал за его работой и поглядывал в окошко, чтобы их кто-нибудь не застал врасплох.
— Ух, как оно громыхнуло! Я думал, это пан или лесник стреляет.
— Давно я не стрелял — набил его слишком туго, вот оно и грохнуло, как из пушки.
— А ты еще с вечера пошел?
— Да, пошел я к лесу, на панское поле, там на озимь дикие козы любят приходить… Темень была, долго я сидел. На заре гляжу — олень идет… В пяти шагах был от меня — вот как я притаился… Да не выстрелил: здоровенный был, как вол, — нет, думаю, не справиться мне с ним! Отпустил его… А немного погодя лани вышли. Высмотрел я себе самую лучшую и только приложился, — как оно грохнет! Очень туго я его набил, у меня даже рука вспухла, так стукнуло прикладом. Но лань я свалил — еще бы, с полгорсти дроби попало ей в бок! А ревела так, что я даже испугался, как бы лесник не услыхал, — пришлось дорезать.
— И ты ее в лесу оставил? — спросил мальчик, увлеченный рассказом.
— Где оставил, там оставил, не твое дело! А если ты хоть словом кому заикнешься, так увидишь, что я с тобой сделаю…
— Я не скажу никому, если ты так приказываешь. А Юзе можно?
— Еще чего? Чтобы вся деревня вмиг узнала! На тебе пятачок, купи себе чего-нибудь.
— Я и так не расскажу, только возьми меня как-нибудь с собой, Куба, голубчик! Возьмешь?