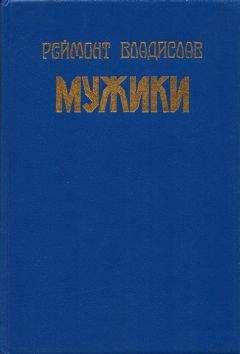— Я не скажу никому, если ты так приказываешь. А Юзе можно?
— Еще чего? Чтобы вся деревня вмиг узнала! На тебе пятачок, купи себе чего-нибудь.
— Я и так не расскажу, только возьми меня как-нибудь с собой, Куба, голубчик! Возьмешь?
— Завтракать! — закричала Юзя с крыльца.
— Возьму, возьму, только молчи!
— И дашь мне хоть разок стрельнуть, да, Куба? — умолял Витек.
— Дурачок, думаешь, порох мне даром дают?
— А у меня есть деньги, мне хозяин еще перед ярмаркой дал два злотых! Я их берег, чтобы на помин сегодня в костел отдать.
— Ладно, ладно, научу тебя, — сказал Куба тихо и погладил мальчика по голове — так Витек тронул его своими мольбами.
Через несколько минут после завтрака оба уже шагали по дороге в костел. Куба ковылял бодро, а Витек немного отставал, огорченный тем, что у него нет башмаков и он босиком идет в костел.
— А босому в ризницу можно, а? — спрашивал он тихо.
— Глупый! Думаешь, Иисус на сапоги смотрит, а не на молитвы?
— Так-то оно так, а все же в сапогах лучше бы… — сказал Витек еще грустнее.
— Еще купишь себе сапоги, не горюй.
— Куплю, Куба, обязательно куплю. Вот только подрасту, сразу поеду в Варшаву и наймусь там в конюхи… А в городе все ведь обутые ходят, правда, Куба?
— Правда, правда! Неужто помнишь?
— Ого, еще как! Ведь мне пять лет было, когда меня Козлиха привезла, я все помню. Холодно было, мы пешком шли на машину, а кругом светло-светло! До сих пор у меня в глазах рябит. Все помню! Там дома стоят один около другого и такие высокие, как костел!
— Выдумываешь! — бросил Куба презрительно.
— Нет, Куба, я хорошо помню. Такие высокие, что и крыш не видно. А колясок всяких сколько!.. Окна до самой земли… Целые стены, кажись, из стекла. И такой звон стоит!..
— Не диво — костелов много.
— Должно быть, так, — а то откуда же звону быть?
Они замолчали, потому что уже вошли на кладбище и стали проталкиваться через густую толпу, стоявшую у костела, так как внутри не все могли поместиться.
Нищие выстроились в ряд, образуя улицу от главного входа до самой дороги. Каждый на свой лад старался обратить на себя внимание, кричал, громко молился и просил подаяния, одни играли на скрипках и пели заунывными голосами, другие — на дудках или гармониках, и гам стоял такой, что в ушах звенело. В ризнице тоже было полно народу, а у столиков, где органист и его сын Ясь принимали деньги на помин душ, была такая давка, что ребра трещали. Куба пробрался вперед и подал органисту изрядный список имен. Органист записывал и брал по три копейки за душу или по три яйца, если у кого не было денег. Витек остался несколько позади. Ему больно наступали на босые ноги, но он все же, как мог, проталкивался за Кубой, а вокруг ворчали, зачем он суется под руку и мешает старшим. Деньги он крепко сжимал в кулаке, но, когда его, наконец, вытолкнули вперед и он очутился у стола органиста, у него словно язык отнялся: как же, тут были все богачи их деревни, и мельничиха в шляпке, словно какая-нибудь помещица, и кузнец с женой, и войт со своей… И все они глядели на него! Подходили к столу, припоминали вслух своих покойников и подавали на помин их душ — и по десять и по двадцать имен… на целые семейства… за отцов, дедов и прадедов… А он, Витек? Разве он знает, кто его мать, кто отец? Ему некого поминать. Иисусе!.. Он стоял, не двигаясь, разогнув рот, как дурачок, широко раскрыв голубые глаза.
А сердце сжималось от боли так сильно, что он едва дух переводил… Ему казалось, что он сейчас умрет от этой боли! Но он недолго так простоял, его оттолкнули в угол, под кропильницу, и он, чтобы не упасть, прислонился головой к оловянной чаше, а слезы, как бусинки, как зерна четок, текли и текли из глаз, — напрасно он пытался их удержать. Он весь трепетал, каждая жилка в нем дрожала, зуб на зуб не попадал, и даже устоять на ногах ему было трудно. Он присел в углу, подальше от людских глаз, и плакал горькими сиротскими слезами.
— Мама, мама! — стонало в нем что-то. И отчего это у всех есть отцы и матери, один он — сирота, только он один?
— Иисусе! Иисусе! — всхлипывал он и задыхался, как птица, придушенная силками. Здесь нашел его Куба и спросил:
— Витек, ты уже подал деньги на поминовение?
— Нет, — Витек вскочил, вытер глаза и решительно двинулся к столу. Да, да, и он подаст имена… зачем людям знать, что у него никого нет? Пускай он сирота, подкидыш — это никого не касается!
Он с вызовом обвел глазами тех, кто стоял у стола, и твердым голосом назвал имена — первые, пришедшие ему в голову: Юзефа, Марианна и Антоний.
Уплатил, взял сдачу и пошел за Кубой в костел молиться и слушать, как ксендз помянет его покойников.
Посреди костела стоял на катафалке гроб, вокруг которого ярко горели свечи, и ксендз на амвоне поминал бесконечный ряд имен, а когда он делал перерыв, ему отвечал громкий хор голосов, читавших заупокойную молитву.
Витек опустился на колени рядом с Кубой, а тот вытащил из-за пазухи четки и читал одну за другой все молитвы, как приказывал ксендз. Витек тоже попробовал молиться, но его скоро убаюкали монотонные голоса молящихся, разморила жара и усталость от слез, он приткнулся к Кубе и уснул…
После обеда вся семья Борыны пошла к вечерне, которую ежегодно в этот день служили в кладбищенской часовне.
Шли Антек и Ганка с детьми, шел кузнец с женой, Юзя и Ягустинка, а шествие замыкали Куба и Витек — коли праздник, так уж праздник!
День смыкал серые утомленные веки, догорал и медленно погружался в унылую и жуткую пучину мрака. Поднявшийся ветер с воем носился по полям, метался меж деревьев и дышал холодным и гнилым дыханием осени.
Стояла тишина — особая, угрюмая тишина поминального дня. Толпы людей двигались по дороге в суровом молчании, слышался только глухой топот ног, да тревожно качались и шелестели деревья вдоль дороги, и тихий, печальный шум ветвей пробегал над головами, а заунывное пение нищих и звуки их скрипок рыдали в воздухе и пропадали без эха.
Перед кладбищенскими воротами и даже среди могил у ограды стояли ряды бочек, а около них толпились нищие.
Во всю ширину дороги под тополями народ валил к кладбищу. В сумерках, уже присыпавших день серым пеплом, мелькали огоньки свечей, колыхалось желтое пламя лампадок. На кладбище каждый доставал из узелка хлеб или сыр, кусок сала, колбасу либо моток пряжи, горсть чесаного льна, связку грибов — и все это бережно складывали в бочки. Отдельно стояли бочки для ксендза, для органиста, для Амброжия, а остальные предназначались для нищих. Кто не клал ничего в бочки, тот совал медяки в протянутые руки нищих и бормотал имена своих покойников, за которых просил помолиться.
Хор молитв, песен, поминаемых имен жалобным ритмом возносился над воротами кладбища, а люди проходили дальше, рассеивались среди могил, и скоро в сумраке, в чаще деревьев, среди сохнущих трав, как светлячки, замерцали огоньки свечей.
В тишине дрожал тревожный, приглушенный шепот — молитв, порой над какой-нибудь могилой звучало горькое рыдание, жалобные причитания терялись среди крестов. То вдруг чей-нибудь короткий, полный отчаяния вопль, как удар грома, разрыва воздух или тихий детский плач, сиротская жалоба, слышался в темной чаще, как писк птенцов.
А в иные минуты на кладбище наступало глубокое молчание, только деревья угрюмо шумели, и уносилось в небо эхо людских рыданий, горьких жалоб, воплей муки и тоски.
Люди бесшумно бродили среди могил, боязливо шептались и с тревогой вглядывались в сумрачную даль.
— Все умрем! — вздыхали тяжело, с глубокой покорностью, и брели дальше. Присаживаясь у родных могил, молились или сидели молча, задумавшись, равнодушные к жизни, равнодушные к смерти, равнодушные к боли, как деревья вокруг, и, как эти деревья, трепетали их души в смутном предчувствии тревоги.
— Иисусе милосердный! Мария! — рвался вопль из душ, измученных жизнью, и поднимались к небу землистые лица и глаза, серые, как лужи, еще светившиеся во тьме. Люди падали на колени у крестов и, приникая смятенным сердцем к стопам Христа, плакали самозабвенно и покорно.
Куба и Витек ходили вместе с другими, а когда уже совсем стемнело, Куба поплелся на старое кладбище.
Здесь на провалившихся могилах было тихо, пусто и мрачно, здесь лежали забытые, о которых и память давно умерла, как и дни, и времена их, и все. Здесь только какие-то птицы кричали зловеще да шелестела печально листва. Кое-где еще уцелели полусгнившие кресты — под ними покоились целые роды, целые деревни, целые поколения. Здесь уже никто не молился, не плакал, не зажигал лампад… Только ветер гудел в ветвях и, срывая последние листья, гнал их в ночь, на погибель. Только какие-то голоса — не голоса, тени — не тени бились о голые деревья, как ослепшие птицы, и словно молили о милосердии.